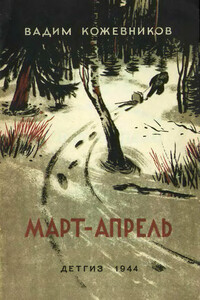Затем кратко сказал о честности, совести и чести. Честность перед родиной, перед своим правительством, перед командиром — высшее достоинство воина. Честен тот, у кого есть совесть.
— Пусть у тебя есть знания и способности, пусть у тебя есть ловкость и сноровка, но если у тебя нет совести, не жди от меня пощады!
И, наконец, честь. Это я объяснил по-своему. Есть две казахские поговорки. Одна говорит: «Заяц умирает от шороха камыша, герой умирает из-за чести». В другой всего три слова: «Честь сильнее смерти».
Когда я закончил, из строя раздался смелый голос:
— Товарищ комбат, разрешите сказать…
На полшага из шеренги выдвинулся дюжий парень с завидным румянцем, в легкой черной рубашке.
— Не разрешаю, — сказал я. — Здесь не митинг. Командиры рот! Развести подразделения!
Такова была моя первая речь, первое знакомство с батальоном.
2
Я шел коридором в приготовленную для меня комнату.
— Товарищ комбат! Разрешите сказать…
Передо мной стоял он же — тот, кто первый назвал меня комбатом. Волосы, еще не снятые машинкой, на затылке были подстрижены наголо, а из под кепки курчавился чуб.
— Как фамилия? — спросил я.
— Боец Курбатов.
Он держался по-военному, вытянувшись в стойке «смирно».
— В армии служил?
— Нет, товарищ комбат. Служил в железнодорожной военизированной охране.
— Вот, товарищ Курбатов: прежде чем обратиться к комбату, надо иметь на это разрешение командира роты. Ступайте к нему.
— Он, товарищ комбат, не принимает во внимание… Я насчет охраны… Задняя дверь, товарищ комбат, не охраняется. Калитка тоже. А вдруг, товарищ комбат…
«Молодец!» подумалось мне. Мне нравились его порыв, его настойчивость, открытый взгляд, развернутые плечи. Но я произнес иное:
— Kpv-гом!
Курбатов вспыхнул. Взгляд стал пристальным, недобрым. Я понимал его. Но тоже смотрел пристально. Мгновение поколебавшись, Курбатов по-солдатски повернулся и зашагал по коридору. Даже покрасневшая шея казалась оскорбленной.
Я сказал Рахимову, который был возле:
— Товарищ начальник штаба, бойца Курбатова назначьте командиром отделения.
Сзади меня кто-то тронул. Обернувшись, я заметил неуверенно отдернутую руку.
— А я к своему командиру обращался. Он сказал — к вам, товарищ комбат…
Я увидел человека в очках. Это была первая встреча с Муриным. В пиджаке, с галстуком, немного съехавшим набок, он говорил улыбаясь и не знал, куда девать руки. Тонкие кисти и бледное удлиненное лицо почти не загорели, несмотря на то что стоял июль.
— Я нестроевик, товарищ комбат, а попросился в батальон, — объявил он с гордостью. — Я доказал, что в очках у меня полная коррекция. Вон на потолке — посмотрите, товарищ комбат, муха! Я ее ясно вижу.
— Хорошо, товарищ. Убедился. Дальше.
— Но и в батальоне, товарищ комбат, меня зачислили в нестроевые. Дали лошадь и повозку. А я абсолютно не имею понятия, что такое лошадь. И не для этого я шел. Я прошусь, товарищ комбат, в строй. Хочется, товарищ комбат, пулеметчиком!
Узнав фамилию, я сказал:
— Это можно, товарищ Мурин. Переведу. Идите.
Но он, казалось, не был уверен, что дело на этом кончено. Ему не терпелось привести дополнительные доводы.
— Я слышал вашу речь, товарищ комбат. Это совершенно правильно. Каждый ваш приказ, товарищ комбат, будет для меня законом.
— Идите, — повторил я.
Он взглянул с удивлением и как ни в чем не бывало продолжал:
— Я, товарищ комбат, музыкант. Аспирант консерватории. Но теперь, товарищ комбат, все должны стрелять!
Для убедительности он повертел пальцами. Я крикнул:
— Как вы стоите? Руки!
Мурин оторопело вытянулся.
— Я два раза сказал вам: идите! А вы? Вам кажется, что вы проситесь на самое трудное — стрелять. Нет, товарищ Мурин, самое трудное, самое тяжелое в армии — подчиняться!
Мурин открыл было рот, желая что-то возразить, но я продолжал:
— Вам множество раз покажется, что командир несправедлив, вы захотите поспорить, а вам кликнут: молчать! Я вам это обещаю. Идите.
Мурин отошел.
3
В этот день я знакомился с командирами рот и взводов, составлял строевое расписание, занимался караулами, связью, хозяйством — и лишь поздно вечером остался один.
Достав из полевой сумки уставы пехоты, которыми меня снабдили в штабе, я принялся читать. Потом отодвинул их и стал думать.