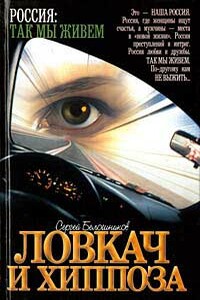Но про судьбу этих троих мальчишек я так ничего больше никогда и не узнала. И я до сих пор не знаю — помогла ли я им, или только сделала для них хуже.
Вот такая история, It"s a boff…
Ну и что же вышло такого особенного из моей любовно-авантюристской эпопеи с Джеком, которая началась в Пакистане и с перерывами продолжается в отелях разных стран уже почти семь лет? Деньги? Да. Работа? Да. Но вот я сижу в своей фотолаборатории, одна-одинешенька, глупая пьяная оттраханная русская баба, и снова и снова копаюсь в прошлом, влезаю и перехожу на… — на кого из вас? С кого на кого? С Сережи на Джека? С русского на английский? И на какой язык, motherfucker?.. Язык, как в зародышево-детских снах студенческо-ленинградской учебы — какой же язык мне сейчас нужен, к такой-то матери — учитывая уже изрядное количество коньяка, вылаканного здесь, в девичей менструально-розовой тишине моей фотолаборатории? И вообще — про язык ли я говорю сама себе, вытаскивая из ванночки с закрепителем очередной снимок очередной сволочи и допивая коньяк, оставшийся на донышке стакана?
Интересно, а жена Джека знает про все наши веселенькие приключения?
Если не знает, тогда ей от меня — привет. И им тоже. Анатомически-петербургский, техасско-бычий языковый привет; ole, Джек-Сережа, где твоя мулета, где бандерильи, где остро отточенные рога, в конце-концов, а? Где твой ласковый и нежный зверь хирурга-дипломата?
Я тебе изменила тогда, Сережа. Не задумываясь даже о смысле этого слова — «измена». И не смей это назвать изменой — лучше или хуже отрежь, искромсай ланцетом свой die Shlange, несчастный самоед, потому что в те пакистански-жаркие дни я забыла тебя нечаянно, и еще потому, что никогда по-настоящему тебя не любила. Забыла, наивно думая, что навсегда. Вплоть до того момента, пока не позвонила тебе из телефона-автомата на площади Толстого. Сволочь я, сволочь распоследняя…
Все, хватит сопли распускать, вернемся на землю, милая. Ты уже надралась, как зюзя. Действуем. Для начала хотя бы постараемся слезть с табуретки.
Ногой я пнула пустую бутылку, из головы выкинула воспоминания, а погасший окурок швырнула в пепельницу и потихоньку выползла из кладовки, слегка натыкаясь на стены, которых вдруг оказалось вокруг чрезвычайно много.
* * *
Сколько времени я держала голову под ледяной водой — не помню точно: думаю, минут десять-пятнадцать. Но мне этого вполне хватило. Я почувствовала, что голова моя превратилась в мини-айсберг, но мозги снова возвращаются на свое привычное место и я уже вполне сносно соображаю. Я закрыла воду и насухо вытерла волосы большим махровым полотенцем, — а то так и менингит не долго заработать. Руки мои по-прежнему были в резиновых перчатках. Русский шпион Драгомирова за проведением суперсекретной операции «Месть».
На кухне я сначала с хрустом сожрала прямо с кожурой пупырчатый лимон, — не каждый способен на такое, не правда ли? — а потом сварила себе крепкий кофе и с ходу, обжигаясь, выпила одну чашку. Налила вторую, принесла ее в кабинет. В голове окончательно прояснилось. Машинально я отметила, что за последние дни стала основательно выпивать — не к добру это, надо прекращать. Мне нужна светлая голова. Горячее сердце, чистые руки и светлая голова.
Мне не хотелось возвращаться в накуренную духоту проконьяченной кладовки. Да еще этот красный свет — бр-р-р! Поэтому я перетащила глянцеватель из лаборатории в кабинет и включила шнур в розетку. По очереди перенесла в кабинет и ванночки с плавающими в воде готовыми фотографиями.
Сунула первую партию снимков в глянцеватель. Заверещал телефон. Помедлив, я взяла трубку.
— Оля, это я, — послышался голос Сережи. — Здравствуй.
— Здравствуй, — откликнулась я и замолчала.
Он тоже молчал. Я слышала в трубке его осторожное дыхание.
— И долго ты еще будешь так молчать? — спросила я.
— Ты была, — он замялся, — ну, там?..
— Где?
— В милиции?
— Да, была.
Он опять помолчал.
— Ты все им рассказала?
— Нет. Ничего я им не рассказала. И не собираюсь рассказывать. Не дави на меня, Сережа, не надо. Я сама знаю, что мне делать. Я уже взрослая девочка.