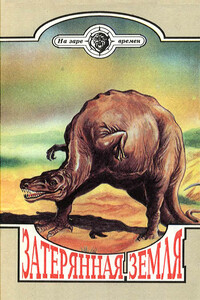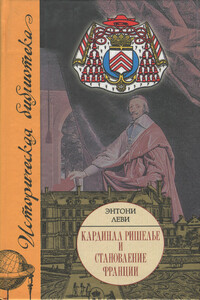На другой день около полудня Миккель и Аксель воротились на берег. Они отправились на квартиру Акселя, он жил в чердачной каморке наверху высокого дома, фасад которого выходил на Большую площадь. Перед ними стоял кувшин с пивом, у обоих был заспанный и потрепанный вид. Однако глаза у них светились от потаенного удовольствия и оба, хотя с больной головой, предавались приятным воспоминаниям.
Особенно довольным и веселым казался Миккель, у него был торжествующий и почти вызывающий вид. Если внимательно приглядеться, в глазах у него было заметно какое-то почти женственное выражение, как будто он готов сейчас не то заключить в объятия весь мир, не то с таким же успехом пожелать ему провалиться ко всем чертям в тартарары!
Аксель не понимал, в чем дело, и с любопытством присматривался. На корабле он узнал про Миккеля нечто любопытное. Среди ночи он услыхал громкие стоны, они доносились снизу из-под палубы, это были мучительные, протяжные вопли. В этих жалобных криках было что-то такое, отчего сжималось сердце: в них слышалась нечеловеческая тоска. Аксель хотел броситься на помощь; тогда ему сказали, что это кричит его рыжеусый приятель, ничего особенного с ним не случилось, просто в стельку пьян. Аксель все-таки пошел в трюм и увидал Миккеля; Миккель был не похож на себя, он лежал с перекошенным лицом, как злодей, привязанный к пыточной скамье. У Акселя до сих пор стояли в ушах эти жалобные стоны, которые издавал Миккель, при этом он изгибался дугой, касаясь опоры только пятками и затылком, его выкаченные глаза в страшной муке неподвижно глядели в потолок; Аксель слышал, как он задавлено хрипел и скрежетал зубами. Но теперь Миккель, как видно, чувствовал себя превосходно, лучше некуда.
Аксель перевел взгляд на круглые зеленоватые стекла окна. Сквозь него пробивался солнечный свет. Аксель распахнул раму. На улице был солнечный день. Крыши домов белесовато отсвечивали, внизу еле полз по протоке низко сидящий в воде ког>{38}, подставив ветру клочок одного паруса, а вдалеке вставала высокая башня >{39}, ярко освещенная, она была отчетливо видна на фоне леса, можно было различить даже щербины в ее кладке, оставленные ядрами во время недавней осады. На площади под окном еще не просохла грязь и стояли лужи после вчерашнего дождя.
— Глянь-ка, Миккель, — воскликнул вдруг Аксель. — Похоже, в замке снова затевается праздник.
К замку двигалась вытянувшаяся вдоль всей улицы вереница дворян и городской знати.
Миккель так и кинулся к окну:
— Значит, и мне надо спешить, — пробурчал он с беспокойством. Никак нельзя было ему где-то прохлаждаться, коли там что-то затевается; пожалуй что не оберешься теперь неприятностей. И Миккель, не мешкая, отправился на службу.
Аксель остался стоять у окна и видел оттуда, как вся знать и все богатеи Стокгольма вереницей тянулись к замку. Перед ним проскакали рыцари на пышнохвостых конях, их шляпы были украшены драгоценными каменьями, камзолы оторочены мехом, на ногах сверкали золоченые шпоры; проехал мимо дряхлый и согбенный епископ Маттиас, красный бархатный плащ его ниспадал по бокам приземистого и невзрачного мышастого конька и, словно алый мак, горел на солнце. Важно выступали за всадниками знатнейшие горожане в богатых негнущихся одеждах, с длинными посохами в руках; шагом ехали дворянки; из боковых улиц прибывал еще народ и вливался в общее шествие, они текли к воротам замка и поглощались каменным зевом круглой арки.
Вдоволь наглядевшись на процессию, Аксель отошел от окна, потянулся, расправляя плечи, и уже не знал, чем себя занять.
— Сигрида! — Он еще раз с хрустом потянулся и улыбнулся, взволнованный сильным чувством. От нахлынувшей тоски по ней вся кровь в нем вскипела, распирая голову и грудь. Еще раз он оглядел свою каморку, заваленную оружием и конской сбруей, и пришел в полное отчаяние. Тогда он повалился на кровать да и уснул.
Проспав несколько часов, он пробудился и отправился в город. Солнце пекло, улицы точно вымерли. Только от постоялых дворов доносился гомон гуляющих солдат, однако даже хмельные голоса звучали глуше обыкновенного; сплошные празднества продолжались в городе уже третьи сутки.