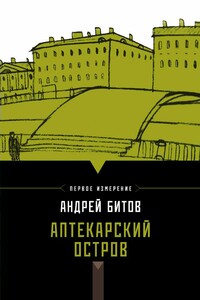- Год. Почти год...
- А сколько здесь страниц?
- Восемьсот. Почти. Немножко не хватило.
- И вы хотите, чтобы я это прочитал за день?
- Так вы же не оторветесь!
Выходит, ситуацией и владеть не надо, если она исходно твоя. А кто читал-то? Так вы первый и будете. А откуда вы меня надыбали? А в адресном бюро. Вы что же, меня читали? Не-а, я по "голосам" про вас слышал. А с чего вы взяли, что вам миллион отвалят? Так не меньше же миллиона...
Его наивность была равна лишь его же опыту. Он сел, когда ему не было и четырнадцати. Ума мне стоило понять, что он ТАКОЙ. Что никем, кроме себя, не подослан.
- А зачем пергамент?
- А если в воду бросать. Я все продумал. Я еще и рекорд Гиннеса поставить могу. Могу присесть пять тысяч раз. Сейчас, без тренировки, не могу. Но две тыщи точно смогу, прямо при вас.
И он тут же присел, в носочках...
- Увольте. - Я сдался.
И я не оторвался...
Глаз ему отстрелили еще в деревенском детстве за то, что отказался поцеловать котенка под хвост. Приседать он научился в штрафном изоляторе, чтобы не замерзнуть. Был он пожизненно влюблен в одноклассницу Веру, но осмелился признаться лишь из тюрьмы, выкупив фотографию у сокамерника-красюка. И получил он на свое признание положительный ответ - из Верочкиного письма выпала фотокарточка ее старшей, полногрудой сестры. Решил он устроить побег, чтобы жениться, и, познав кодекс, крикнул конвойным: "Не стрелять! Бежит малолетка!" - и получил пулю в плечо. Он бежал и чувствовал, что ему вообще оторвало руку. Раненая рука была со стороны без глаза, и он не мог ее видеть. Тогда он взял ее другой рукою и поднес к другому глазу на бегу, чтобы убедиться.
Я погибал - ЕГО спасали. Дарили ЕМУ котенка Тишу. Варежки и шапка больше ее самой. А Тишка еще меньше варежек. Я целовал ее в холодную шапку, в варежку, в Тишку. Скорей!
Нам мешали. Кто бы это мог быть? Его я никак не ожидал. Единственный в своем роде на земле человек. Такой же, как я. Родители - те лишь наполовину такие же, каждый на свою. А этот - такой же, на обе половины. Получается, брат. Хотя грузин. На год он бежал впереди меня.
Он не должен был ее видеть, она его - слышать. Квартира однокомнатная, я прятал ее в шкаф в чем была: в рубашке и в шапке. Он продолжал перерождаться в женщину. В доказательство чего отпустил бороду. Женщины его больше не интересовали как мужчину. Уже год он поднимал всю медицинскую литературу. Это была редчайшая генетическая болезнь, почему он и обязан был меня предупредить. Чтобы я впредь правильно выбирал родителей.
Это сама по себе долгая история. Потом он пропал.
Она выходила из шкафа в одних варежках. Соски ее пахли нафталином.
Лучше всех было Тишке. Он спал на моих свалявшихся рукописях.
Она уходила. ОН успел, негодяй, поцеловать ее в руку. А то она опять засунула бы ее в варежку.
Она или брат забыли книжку? "Жестяное руно победы". Перевод с грузинского.
Пишут же люди!
Покатыми, нобелевскими волнами катилось повествование. Лизало берег Колхиды. Маленький усталый отряд, последний остаток могучего войска. Впереди Язон, не иначе как в "плаще с малиново-красным подбоем". За ним тот, который все исполняет молча, вроде в плену ему отхватили язык. А за тем уже тот, который только почесывается, - его донимают "москиты". Всех по очереди трясет малярия. Лишь один Язон гладко выбрит, отражаясь в собственном щите. Иной хромает в конце - короткий обоюдоострый меч натер ему шею, и у него "гноится набедренная повязка". И тут немой произносит первое слово. "Понт", - сказал он. Короткий и обоюдоострый промыл свою рану морской водою. Развели костерок. Отблески играли в их запавших глазницах. Жертва москитов почесывал свою широкую грудь осетина. Сыпались искры, не достигая звезд, под которыми мирно спала непостижимая Эллада, забыв своих героев. Со страницы повеяло костерком, и ноздри мои раздувались от бессильной зависти к этому древнегрузинскому греку.
Поторопился я спастись до срока... поторопился я креститься - вот что! Сорок лет прождал, как великий князь, а - поторопился. Не умер я тут же! А как там было умереть?.. Глаз, тот не умер, когда ему, ребенку, шконкой (прут из спинки железной кровати) фанеру (грудь) отбивали, - а как тут умрешь, дотянув с грехом до сорока, в самом красивом месте на земле... от счастья разве. Монастырь Моцамета, что, как выяснилось, и значит "верующие", стоял на километровом обрыве над Курой, и с обрыва там праздновался такой мир и пейзаж, еще и принаряженный осенью, - воздух был чем дальше, тем прозрачнее: на дне его, на пойменном берегу, как раз собрались отпраздновать воскресенье, разводили шашлык, выкладывали лаваш и зелень, и счастливая корова, подкравшись, украла лаваш и бегала кругами по лугу от преследователей, как собака, и обворованные были еще счастливее вора...