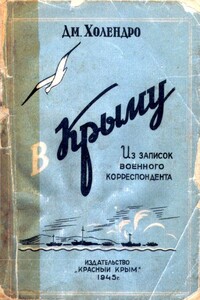— Килограмм восемь чистого мяса! — говорит Саха.
— Еще запрещено стрелять, — отвечает Харлаша.
— То-то и оно-то!.. Да кто услышит?
Сначала они обгоняли людей на велосипедах, везущих привязанные к багажникам буханки хлеба. Велосипеды давно выжили из степи извечный транспорт — двуколочку, но что-то еще переменилось: хлеб везут не из деревни в город, а из города в деревню… Очень уж легко и быстро перемещаются люди и требуют хлеба, забыв о том, где он растет, и о тех, кто тихо и терпеливо ходит вокруг него. Вся земля разбегается куда-то… А хлеб растет на прежнем месте…
Теперь они далеко отъехали и от города и от деревень, и вокруг нет ни велосипедистов с хлебом, ни голосующих баб, никого…
Саха выскакивает из кабины с ружьем и бежит за дрофой. Пыльно-рыжий пук бурьяна, разросшийся на его голове, мелькает за стеклом кабины, и старик начинает гудеть, наугад отыскав ладонью пластмассовую шляпку сигнала.
Саха прибегает недовольный:
— Я думал, инспектор…
У него куртка под кожу, сапоги с вывернутыми для форса голенищами, как бы с парусиновыми обшлагами наверху. Он давит сапогом на педаль, и машина дергается, толчком срывается с места.
Может быть, оттого, что Харлаша выпил, его тянет поговорить.
— Значит, это сигнал? — спрашивает он, постукивая пальцем по круглой лепешечке перед Сахой.
Саха вынимает из куртки яблоко, грызет и сопит, не отвечая.
— А это? — старик трогает загадочную белую пупочку на щите.
Ноготь у него больше пупочки, измазанной маслом с пылью. Он тихонько вытирает грязь пальцем.
Саха ест яблоко. Жирные брыдла его ходят ходуном, подбородок косит. Грузовик набирает скорость.
— У меня ж Витька — шофер, — признается Харлаша. — Пишет, какая техника!..
Саха достает еще одно яблоко и трет о сиденье.
— Чудной ты, дед!
Снова горбится столб сбоку дороги, и на нем сидит старый грач. А может быть, это другой столб и другой грач.
— Комодишку-то свою заволок?
Меркнет солнце, одевая в серое землю и небо.
— А домик твой другим отдадут! У сельпо-то!
Машина режет пространство, и старик думает, что мог бы и Витька возить рыбу, как Саха. И еще он думает, что чудной не он, дед, а этот самый Саха, такой большой, что не вмещается в свое обычное имя — Сашок, вот его и перекрестили. С виду пудов семь-восемь весу, а пустой, как бочка, которые подпрыгивают и переталкиваются в кузове.
— Тю-тю! — продолжает усмехаться Саха. — Такая фатера! Радио играет.
— Мне Витька патефон купил.
— Какой патефон?
— И пластинки, где поют под гитару, — не допуская возражений, прибавляет старик.
— Пишет? — удивляется Саха, извлекая на божий свет третье яблоко и хрустя им на всю степь.
— А ты все яблоки трескаешь? — удивляется и Харлаша.
— От малокровия, — говорит Саха.
12
Утро чуть проглядывает в узкую щель между тьмою моря и тьмою неба, и Харлаша не мысленно, а физически загибает один палец на руке. Большой, темный, расплюснутый работой палец, с набалдашником наверху, как у кнехта, за который цепляют канаты пристающие корабли.
Харлаша точно знает, сколько письмо идет туда, до сына, и считает дни.
А день только начинается, и даже до середины его дотянуть трудно, не то, что дождаться, пока по воле курносой девчурки свяжется разорванная между ним и Витькой нить.
В середине дня школьный звонок барабанит в уши старика, и смех и толчея тут же окружают его, теснят, крутят, баскетбольный мяч летит, раздуваясь во все небо, а старик все же промахивается, а может, он и не бил, а только отгородился и мяч пролетел мимо, и он спешит выбраться из чехарды лиц, портфелей, мячей и орущих голосов, как из метели.
Он проталкивается к школьному крыльцу, хватает и поворачивает к себе белобрысого мальчугана и отпускает, потому что это не тот, кого он ищет.
С обрыва возле моря школа всеми своими высокими окнами глазеет в бесконечную даль, словно для того, чтобы малые люди, выйдя из-за парт, не катили, кто куда, за счастьем, за деньгами, а садились на корабли. Насмотреться на море нельзя. Моря всегда много и мало, и если глядишь в небо, тебе хочется стать птицей, а если ты у моря, тебе нужно лодку.
Харлаша подкрадывается к открытому окну и подтягивается на цыпочках, чтобы заглянуть внутрь, сметая бородой пыль с подоконника. Так и есть, вот он! Над партой одиноко склонился белый хохолок.