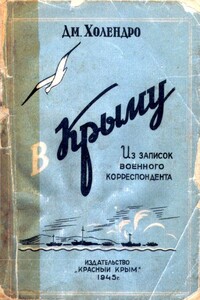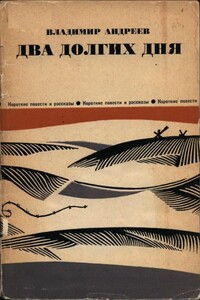Рыбаки с других сейнеров проходили мимо в глянцевых капюшонах и говорили с начальством о чем-то своем:
— Вторую тоню зевнули…
— Сбежала рыба.
— А Демидов-то успел!
— Мы за ним не угнались…
— Все за Андреем бегают, а он от них…
— Моря им мало!
У меня текло по спине и груди, когда я выполз наконец по умятым в откосе ступенькам на улицу и стал соображать, куда идти. В кармане моем размокал конспект не состоявшейся лекции. Мне захотелось назад, в море. Я оглянулся: в дожде ухали волны. Тут только я понял всю позорную непоправимость дела. Не оставалось ничего, как удрать из Камушкина! Навсегда.
— Доктор, пойдем на танцы? — серьезно спросил Демидов, обгоняя меня.
В клубе духовой оркестр пожарников-доброволь-цев играл нестройное танго. А я сцепил зубы и зашагал в больницу, за расчетом.
6
Но была ночь.
Ни Ивана Анисимовича, ни начхоза, ни Туси — никого я не застал в больнице. Старички-симулянты сказали, что начхоз ночью не бывает, Туся ушла в клуб, а Иван Анисимович, по случаю отсутствия настораживающих симптомов черной оспы или чумы, вместо дежурства смотрит дома очередной сон про Суматру или Калимантан, где идут бои с империализмом и водятся медведи коала и ящерицы гаттерия или какие-то другие реликты. Он наказал позвать его, если что.
Еще когда я шел с пристани, я встретил буфетчицу Лилю. Она пряталась под козырьком клуба, оберегая под ним свой насквозь светящийся плащик, а под этим плащиком свое бальное, смертельно белое платье с цветком на груди и под такой же слюдяной косыночкой свою рассыпчатую прическу. Лилина голова была вся-вся в кудряшках, как на рисунке самого неумелого художника. Мягкая, большая, во всем прозрачном, словно в подарочной обертке, Лиля ждала Демидова, заслоняя собой вход в клуб, изо всех щелей которого сочилось беспрерывное, бесконечное танго.
— Эй, доктор, где Андрей? — требовательно крикнула она мне, будто бы я его спрятал.
Вероятно, Демидов уже снял дома робу, влез в коверкотовые брюки, желтые тупоносые полуботинки и сейчас, в эту минуту, смешил Лилю рассказом обо мне. Я так и слышал, как она неудержимо заливается. И ее необъемные, добрые, холмистые груди ходят перед Демидовым штормовыми волнами. А я завтра уволюсь…
У больничной двери задрожал колокольчик. Кто-то дергал за шнурок. Я сердито прислушался и пошел открывать. Я шагал не спеша по коридору, а в дверь уже бухали ногой. Это хулиганство. Есть же колоколец! Ну, сейчас рубану…
Я открыл дверь и застыл.
Передо мной стоял Демидов с незнакомой женщиной на руках. С капюшона его черного плаща крупные капли падали на нее. Ее вишневая кофточка почернела на плечах от дождя. Круглые большие глаза смотрели на меня сквозь застоявшуюся боль. И безвольно и беспомощно свешивались через руку Демидова ноги, обутые в школьные туфли. Я видел стоптанные каблуки с отмытыми блестками гвоздиков.
Вся она была беспомощная и хрупкая, какими в эти решающие часы великого испытания становится большинство беременных женщин. Я тогда увидел это впервые и растерялся. А она еще была такая маленькая в демидовских ручищах, как девочка… Только глаза… И я невольно втянул голову в плечи.
— Что стоишь? — гаркнул Демидов. — Бери!
— Проходите, — пригласил я, распахнув дверь, и по мокрым следам от его полуметровых ботинок побежал за ними.
Когда он опустил незнакомку на диван в коридоре, она задержала его каким-то намагниченным взглядом своих больших глаз. Она виновато улыбнулась и спросила:
— Вы кто?
— Демидов, — досадливо бросил он, словно огрызнулся.
— А я — Маша, — сказала она.
Он похрипел, прочищая свое басовитое горло, провел рукой под носом и сказал:
— Ничего, не бойся.
— Подождите! — крикнул я ему так, будто мне самому была нужна помощь.
Два старичка, выглянувшие в коридор, помогли мне перенести Машу в палату. Пока она переодевалась в больничное, я отвернулся, потом быстро собрал ее вещи в узелок и вышел.
Демидов все еще стоял у дверей. Галстук его съехал набок.
— Тогда принесете, — сказал я, сунув ему узелок.
— Что это?
— Ее вещи.
— Зачем они мне?
Я глубоко вздохнул и ничего не ответил. Но тут же во мне заработал какой-то властный неожиданный автоматизм.