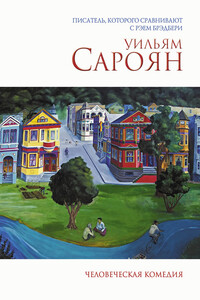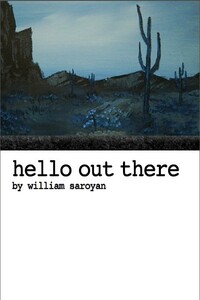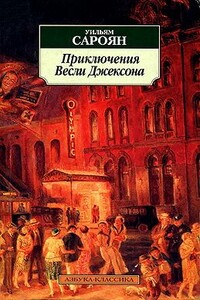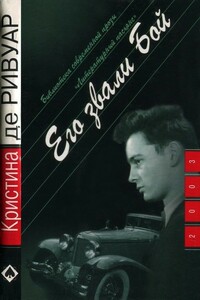Весь день мы провели за разговорами про лошадей, причем каждый из нас знал, что у другого нет денег, и, когда заезды окончились, мы ушли. Я не знаю, куда пошел этот русский, но я вернулся в игорное заведение и сел за карты. Поздно ночью один молодой парень, которому я помог однажды, увидел меня и подсел ко мне за стол, говоря, что ему немного повезло. Уходя, он молча протянул мне полпачки сигарет и четвертак, и я смог купить себе приличной еды и покурить. Сидя в игорном заведении, в ослепительном электрическом свете, я умудрился как бы поспать с открытыми глазами, а может, это была полудрема. И я не чувствовал себя очень уж усталым в два часа ночи.
Я опять слонялся по улицам до девяти утра, пока не открылась букмекерская контора, где меня уже дожидался русский, чтобы узнать, как мои дела. Он тоже не спал и зарос четырехдневной щетиной, выглядя обозленным, несчастным и питающим к самому себе отвращение. Я протянул ему пачку сигарет, и мы закурили.
Часов в десять утра он ушел, ничего не говоря, а когда через полчаса вернулся, я почувствовал – что-то его тяготит. Он хотел, чтобы мы выкарабкались из ямы, в которую угодили, и у него наверняка созрел какой-то замысел, не дающий ему покоя. Я надеялся, что он не задумал что-нибудь своровать, но его замысел, неважно какой, был не из приятных. Наконец он подозвал меня, и в первый раз со дня нашего знакомства я понял, что некогда этот человек был высокого звания, пользовался большим уважением. Я уловил это по той почтительной манере, с которой он попросил меня составить ему компанию. Мы вышли в Оперную аллею, и из-за пазухи пальто он достал конверт. На нем красовалась французская марка. У него был удрученный, подавленный, болезненный вид.
– Я хочу поговорить с вами, – произнес он с акцентом. – Не знаю, как мне быть, а это все, что у меня есть. Решайте сами. Я сделаю все, что в моих силах, тогда мы, может, выручим немного денег.
Он говорил, потупив глаза, не глядя мне в лицо, и я заподозрил неладное.
– Это все, что у меня есть, – повторил он. – Это скабрезные картинки. Грязные, развратные французские открытки. Если хотите, я попытаюсь продать их по десять центов за штуку. У меня их штук двадцать.
Я был сам себе омерзителен, и мне было обидно за высокого русского. Мы прогулялись по Оперной аллее до Мишн-стрит. Что тут скажешь? Я и впрямь попал в сложную ситуацию: нужно было что-то говорить, чтобы доказать ему, что прежде всего я думаю о том, чтобы он сохранил лицо. Я хотел, чтобы он не делал ничего такого, чего бы он не стал делать по своей воле. Ничего такого, о чем он и помыслить бы не мог, если бы не знал, что я сижу без гроша, голодный и бездомный. Мы стояли у бордюра на Мишн-стрит. Я был не в состоянии говорить, но у меня, должно быть, был жалкий вид, и он наконец произнес:
– Спасибо. Я вам признателен.
На углу стояла урна для мусора, и я видел, как он отвернулся от меня, улыбаясь, словно Христос собственной персоной на некоторых картинках, и зашагал прочь. Когда он подошел к урне, то поднял крышку, и я увидел, как он швыряет конверт в урну. Потом он быстро зашагал, как мне кажется, погруженный в свои раздумья. Что ж, по крайней мере, я попытался предложить ему свою помощь, пусть даже в такой вот форме. И моя совесть чиста. Я видел, как он заспешил прочь, шагая среди обтрепанных людей, все еще оставаясь самим собой, все еще сохраняя хоть какое-то собственное достоинство.