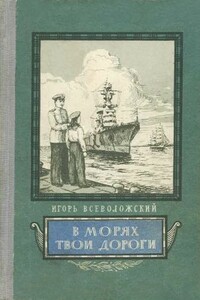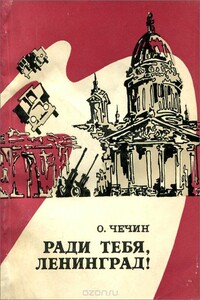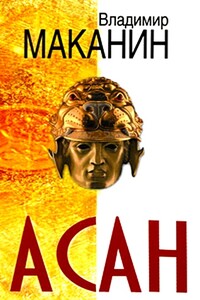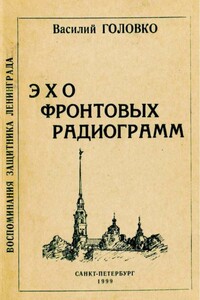Михаил Иванович, побледневший как смерть, встал, начал шарить на вешалке, ища свою шубу.
— Ты куда? — забеспокоилась Меланья Никитична.
— За Волгу пойду.
— Ты же болен. Куда ты пойдешь? Пурга, ночь, не видно ни зги…
— Все равно пойду, — упрямо сказал Михаил Иванович.
И она, увидав в его глазах ужас, поняла: не сможет он во второй раз пережить то, что пережил, когда его в Куцую Балку вели на расстрел. Такого на одного человека и один раз на всю жизнь предостаточно. Недаром он поседел в ту страшную ночь. И, зная, что не переубедишь мужа, Меланья Никитична подмигнула забеспокоившимся соседям, чтобы не отговаривали. Сама нашла шапку и палку, сунула в карман Михаилу Ивановичу кусок хлеба и проводила на улицу.
Михаил Иванович словно нырнул в пургу — и исчез. Неужели она его больше никогда не увидит?
— Меланья Никитична, простудитесь, — позвали хозяева.
— А? Да… — откликнулась Меланья Никитична и вошла в дом.
Лампу уже погасили для верности: как бы кто не завернул ненароком на огонек.
Михаил Иванович сполз с крутого берега к Волге. Ноги подгибались и не держали. Здесь ветер дул крепче, пронизывая насквозь. Нигде не было видно тропки.
Долго блуждал Михаил Иванович, пока не наткнулся на полузаметенную дорогу.
— Ну вот, — сказал он себе. — Теперь быстро дойду. А на том берегу они меня не разыщут. Не станут они за отдельным человеком гоняться. Эх, скорей бы дойти!
Но дойти было нелегко. Другого берега не было видно. До рассвета еще было далеко.
Он нащупывал заметенную колею, шел по ней, спотыкаясь, падал. Тогда, с трудом приподнявшись на руках, садился и отдыхал. «Сдаешь ты, Михайло. Нехорошо». Да, сдавало и сердце и ноги, тяжелой, как чугунный котел, была голова. То ли дело раньше. Бывало, в Великокняжескую пройдешь — не устанешь, а от Платовской до Великокняжеской тридцать верст! «Эх, старость не радость», — размышлял он. Да одна ли старость? Тут и болезнь, и волнения, и беспокойства. А ведь надо идти, а то замерзнешь тут, на ветру…
Он с большим трудом поднимался: ноги его не держали, подкашивались. Долго стоял, пошатываясь, как бы приобретая устойчивость. Потом осторожно делал первый шаг, за ним второй…
Нащупывал колею от полозьев. Брел дальше. А Волге не было видно конца.
«Дойду! Нет, не дойду! — перебивала одна другую мысль. — До чего же хочется пить!» Нагнулся, да чуть было не провалился в небольшую, занесенную снегом полынью. Вода жгучая, ледяная. Он встал на колени, разворошил снег, увидел ее, черную, как чернила, зачерпнул в ладони, выпил жадно, чувствуя, как обжигает она сухое, жаркое горло. С удовольствием напился досыта, на минуту почувствовал себя лучше — освеженным. «Теперь дойду!»
На востоке забрезжил рассвет, над Волгой стоял легкий туман, и там, впереди, на какое-то мгновение проглянуло еще морозное солнце — рыжий шар с красными краями, словно взлохмаченными. И снова наползли облака, густые, как паутина, и закрыли его. И в тот момент, когда солнце осветило вдруг оба берега — и крутой и пологий— и Волгу со всеми извилинами, теряющимися вдали, и Светлый Яр за спиной на белом с черными плешинами косогоре, и бесконечную дорогу впереди, уходящую в Заречье, Михаил Иванович понял: ему не дойти. Ему показалось, что он не пройдет и половины пути, упадет и будет лежать на льду один, никто не придет на помощь, и он замерзнет. Вода, которой он жадно напился, теперь тяжелила и жгла внутри. Ему стало совсем плохо; он понял, что все еще болен, тиф не покинул его. «Домой! — казалось, сказал чей-то голос. — Иди домой, в Светлый Яр, будь что будет. Может, казаки ушли…»
Он повернулся и с трудом поплелся обратно тем же путем, который с такими нечеловеческими усилиями преодолел.
…Много ли он прошел, мало ли, а Светлый Яр все еще маячил так же далеко, как на рассвете. Теперь стоял серый день. Какая-то лошадь ткнула Михаила Ивановича в спину горячим косом. Он едва не упал, отшатнувшись и пропуская мимо себя вереницу саней, на которых ехали люди в необъятных теплых тулупах. Они ехали молча, сосредоточенно, явно куда-то спеша.
— Эй, земляк! — окликнули Михаила Ивановича с саней. — Ты куда бредешь, в Светлый Яр?