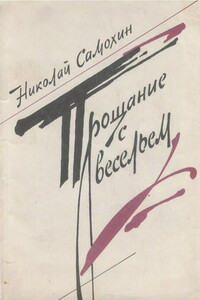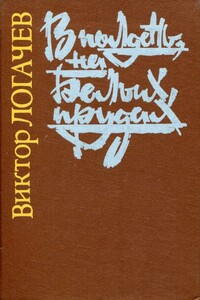Теперь Овчинникову уже всецело захотелось побывать на этой станции, вспомнить молодость, щедро в память деда навезти всего, и он накупил диафильмов, связанных не только с пчеловодством, но и с историей, и с минувшей войной, накупил и книг, присоединил к ним свои, сделав на титульном листе надпись: «В библиотеку пчеловодческой опытной станции имени Овчинникова от автора — внука К. К. Овчинникова», дал телеграмму о своем выезде, сел в поезд, а утром было и Угланово, ныне уже не маленькая, затерянная в российских полях станция, а с вокзалом, правда небольшим, но были в нем и газетный, и аптекарский киоски, и ресторан, еще закрытые в этот ранний час. Поезд стоял уже не две минуты, а шесть, проводник помог выгрузить несколько пачек книг, и почти сейчас же подошел вежливый молодой человек, отрекомендовался сотрудником пчеловодческой станции Савиным, сказал: «Для нас большая честь ваш приезд», и Овчинникову захотелось ответить: «Ну, не очень-то большая честь... внук — это все-таки не дед, а я только внук».
— У нас своей машины нет, — сказал Савин. — Но в райкоме, как только мы назвали ваше имя, предоставили.
И по другую сторону станции стоял выкрашенный в мутную зеленоватую краску повидавший виды вездеход, дорога была уже не проселочная, а грейдерная, потом наплыли видения молодых лет, наплыл сосновый мачтовый лес, за ним поля, был июнь, цвела гречиха, навстречу широкой волной шел ее нежный запах, вся земля вокруг, казалось, медоносила от этого запаха, а июнь гудел, словно вместе с цветущей волной шло и гудение пчел или самой природы в торжестве ее созревающих сил.
На пчеловодческой станции Овчинникова встретили почтительно, с благодарностью приняли книги и диафильмы, оказалась и совсем еще юная библиотекарша, девушка в очках, несколько возвышенно сказавшая:
— Я ваши книги читала. А книги Константина Ксенофонтовича у нас в особом шкафу хранятся, присоединим к ним теперь и ваши книги.
Потом Овчинников сидел в кабинете директора станции, краснощекого русачка Елистратова, влюбленного в свое дело и как бы всего пропахшего и гречихой, и медом, и всем тем, что составляло существо этого цветущего мира.
— Вы когда же в последний раз побывали здесь? — поинтересовался Елистратов.
Овчинников задумался.
— Пятьдесят один годик назад... полвека с гаком, как говорится.
— Порядочно, — признал Елистратов. — Конечно, станция наша уже не та... есть и хорошая лаборатория, и свои печатные труды.
А в конференц-зале, где обычно происходили лекции с показом диафильмов, рядом с портретом знаменитого пчеловода Прокоповича висел большой портрет деда — Константина Ксенофонтовича Овчинникова.
— Позднее покажу вам наше хозяйство, — пообещал Елистратов. — А кабинет Константина Ксенофонтовича мы сохранили в том виде, в каком он был при нем.
И тоже как видение молодости возник кабинет деда с образцами сотов, ацетиленовой лампой и портретом Метерлинка в рамке, только никто не допросил на этот раз: «Чем дышишь?», а если бы и задали такой вопрос, пришлось бы ответить: «Пишу книги помаленьку», но надеяться: «Поживем — увидим» — было уже поздно...
— Вы сейчас, наверно, заняты, а я поброжу немного, — сказал Овчинников. — Столько всколыхнулось во мне всякого...
— Хотите, с вами наш сотрудник пойдет? — предложил Елистратов.
— Нет, лучше побуду один.
— А если на пасеку заглянете, захватите эту шляпу, — и Елистратов дал ему большую соломенную шляпу с сеткой. — Кстати, вы на вашего деда очень похожи, если судить по портрету.
И вправду, и высокой фигурой, и орлиным тонким носом, и седыми волосами вокруг начинавшейся лысины походил он, наверно, на Константина Ксенофонтовича.
Овчинников вышел из здания станции, широкий простор полей открылся вскоре перед ним, солнце уже высоко поднялось, и звенящий и гудящий мир снова возник в жаркой своей прелести.
Овчинников пошел по дороге, справа голубели ульи пасеки, и он сменил свой берет на шляпу с сеткой и вошел в снующее, озабоченное пчелиное царство. А возле одного из ульев стоял старик с красноватым, словно дубленым лицом и ватной белой бородой, сквозь которую просвечивал розовый подбородок, доставал из улья рамку, пчелы ползали по его рукам и лицу, но он не смахивал их, а лишь как бы отодвигал в сторону по временам.