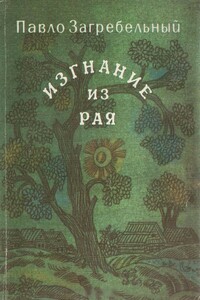— Сестрица Аннушка седни раз пять заглядывала, думала — поднесешь спозаранку, — говорит мать, гремя кочергой.
— Как же, разевай рот шире! Она ведро вылакает на даровщинку. Гостьюшка!.. Кабы не память братца Ивана, показал бы я, где порог, где дверь.
Отец сердито опрокидывает стакан, ладонью вытирает усы.
— Копаешься, матка! К шапочному разбору в церковь придем. Давно благовестили… Скоро ли ты там?
— Я сейчас. Одевайтесь.
Началась торжественная церемония одевания в «тифинскую» — престольный праздник тихвинской божьей матери. Отец пошел в чулан и принес праздничную, бережно хранимую с женитьбы одежду. Острый, едучий нафталин сразу перебил в избе вкусные запахи.
Чихая, Шурка с любопытством следит, как надевает отец «крахмале» с блестящими запонками из «самоварного золота», стягивает шею тугим порыжелым воротничком, нацепляет галстук бабочкой. Затем следуют: бархатный жилет и широкий, двубортный, с залежалыми складками пиджак. Осторожно натянув лакированные сапоги и пройдясь со скрипом и стуком по избе, отец останавливается перед зеркалом и причесывается. На голову он ставит вместо картуза черную шляпу — котелок, в руки берет трость с костяной собачьей головкой.
Мать чистит отца со всех сторон щеткой, присев на корточки, дышит на лакированные голенища и трет их подолом юбки. Потом, быстро умывшись и по пути еще немного погремев на кухне заслоном, наряжается в голубое подвенечное платье, втискивает ноги в свадебные желтые полусапожки и повязывает голову черной, плетеного шелка, косынкой.
— Ну вот и я готовая! — говорит она, конфузливо поворачиваясь перед отцом.
Они осматривают друг дружку, ревниво примечая на одежде пятна и дыры. Мать штопает, затирает на скорую руку, а отец ворчит, что прежде сукно износу не знало, дедушкину тройку внук донашивал, а теперь, смотри‑ка, хоть каждый год костюм покупай — капиталов не напасешься.
Шуркин наряд составляют поношенная, но чудесная, привезенная отцом из Питера, белая рубашка с напуском и синим матросским воротником, короткие штаны из неизменной «чертовой кожи» и новые башмаки на босу ногу. Все это, вопреки протестам матери надетое еще до чая, изрядно жмет и, главное, уже носит следы поспешного уничтожения пшеничных масленых пряженцев. Как ни таится Шурка, как ни вертится по избе волчком, зоркий материн глаз обнаруживает предательские рыжие звезды на матроске. Веский, отнюдь не праздничный подзатыльник получает он от разгневанной руки родительницы. Ладно, сегодня тихвинская, реветь не полагается.
Шурка хочет взять с собой пугач, но мать не позволяет.
— Очумел? Да разве можно в церковь с баловством?
— Скорей поворачивайтесь, — торопит отец, начиная опять сердиться. Ох, уж вы мне!..
Но вот с грехом пополам удалены с бесценной праздничной одежды самые заметные пятна, заштопаны дыры. Умыт и наряжен братик. Последний раз отец и мать смотрятся в зеркало и, довольные, покидают избу.
Мать накрепко запирает все двери, ключ от крыльца прячет под бревно за двором. Перекрестившись, она сажает на левую руку Ванятку, правой подбирает тяжелый, шелестящий подол платья и заодно ловит Шуркину руку, точно он маленький, один ходить не умеет.
Надвинув на глаза картуз, Шурка выражает неудовольствие, но отец, степенно идущий впереди, оглядывается и сквозь зубы грозно бросает:
— Тихо!
В самом деле, пора молчать. По дороге идут и едут в церковь разряженные прихожане. Они должны видеть мир и порядок в семье питерщика.
Чинно и медленно совершается путешествие вдоль села к церкви.
Шурка замечает — отец не здоровается первый со встречными знакомыми (а знакомы отцу все мужики и бабы). Он ждет, когда ему поклонятся, и тогда он в свою очередь чуть приподнимает шляпу. И кажется Шурке — все с завистью смотрят на зеркальные сапоги отца, на его городскую трость и шляпу. Еще бы! Слепому видать, какой богатый человек Шуркин батька.
Подпираясь тростью и выпятив крахмальную грудь, он высоко несет голову, словно высматривает что‑то далекое, ему одному видное. Тугой, негнущийся воротничок не позволяет ему ворочать шеей. И когда нужно что‑нибудь сказать матери, отец поворачивается в ее сторону всем корпусом.