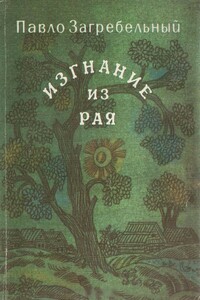Здесь оборвалось его знакомство с железной дорогой. Хромой сторож с медным рожком за поясом замахнулся на него зеленым дырявым флажком и, пообещав надрать уши, прогнал прочь.
Шурка возвратился на платформу, к матери. Нетерпеливо спросил:
— Скоро?
— Скоро, — ответила мать, одергивая ему подол рубашки. — Симафор, никак, открыли. Должно, сейчас.
— Какой симафор? Где?
— А эвон… как журавель колодезный, ногу‑то вытянул.
— Зачем?
— Тятеньке нашему станцию указывает, чтобы он мимо нас не проехал, улыбается мать, вытирая лоб, щеки и шею свернутым «мышкой» платком.
Ей жарко, но она и не думает снимать шаль. Знакомые бабы окликают ее, мать кланяется и отвечает степенно, как и положено, когда встречаешь из Питера батьку. Из помещения станции приглушенно доносятся таинственные звонки. Что бы они значили? Неужели это поезд о себе дает знать?
На крыльцо выходит человек в тужурке со светлыми пуговицами, в галошах на босу ногу. Картуз у него с красным верхом. Человек курит папиросу, сонно оглядывается вокруг, зевает. Потом нехотя идет к станционному колоколу, звонит.
У Шурки замирает сердце. Он крепко держится за подол материной юбки. Платформа оживает. Появляются пассажиры с котомками и узелками. Какая‑то старуха в лаптях, высокая, с кривым повойником* на седой голове, присев возле тощего белоглазого паренька, делает сразу четыре дела: крестит, плачет, спрашивает сердито, куда девал билет парнишка, и поправляет ему за спиной полосатый холщовый мешок.
И вот, точно из‑под земли, слышен далекий свисток паровоза. За частой изгородью елок появляется редкий дымок, словно дядя Ося в раздумье попыхивает трубкой. Дымок приближается, растет, густеет и тащит за собой цепочку спичечных коробков на колесах.
Шум надвигается. Уже не спичечные коробки, а чудище, задыхаясь в бешеном беге, летит на Шурку. Ему жутко и весело. На платформе бранятся ямщики, выбирая себе местечко повиднее. Они снимают картузы и молодцевато подпираются кнутами, точно саблями. Старуха в лаптях снова крестит белоглазого парнишку и наказывает ему держать билет в руке, а билет у парнишки опять куда‑то запропастился.
С грохотом и свистом пролетает паровоз мимо станции. Ветер бьет в щеки колким песком. Шурка невольно прячет лицо в складки материной юбки. Одного Он боится — пожалуй, не остановится машина, мимо проедет отец. Должно, журавель этот не указал ему станцию. Вот беда! Шурка готов зареветь, но мать хватает его за руку и бежит к зеленым вздрагивающим вагонам.
Рябит в глазах от множества человеческих голов, свисающих гроздьями из окон. Звенит в ушах от шума и криков. Кто‑то второпях наступил Шурке на ногу. Он молча переносит боль. Последние три вагона остались, а бати не видать. Конечно, он не приехал!
— Палаша… Сюда… Палаша!
И в тот же миг, нет, даже чуточку раньше примечает Шурка в окне последнего вагона косой, брусничного цвета ворот ластиковой рубахи и знакомые кошачьи усы. Отец улыбается и машет рукой.
Он появляется на площадке вагона, и мать торопливо принимает кучу узлов и заветную, туго перевязанную бечевой корзину. Спустившись на платформу, отец первым делом пересчитывает узлы и только после этого здоровается. Они с матерью прикладываются щеками крест — накрест, три раза, как в пасху, когда христосуются.
— Живы? Здоровы? — спрашивает отец и сам себе отвечает: — Ну и слава богу!
Высоко поднимает на руки Шурку.
— Ух, как вытянулся! В Питер пора.
Усы отца пахнут табаком и приятно щекочут губы.
— На — ко… похрусти…
Горсть леденцов перекочевывает из кармана отца в Шуркин картуз.
Перед тем как погрузить узлы и корзину на дроги, отец медленно обходит вокруг Лютика и довольно щурится.
— Спасибо. Не заморили мне коня… Ишь пузо отъел, старый!
Он хлопает ладонью по крутому заду Лютика. Привычными, ловкими движениями подтягивает чересседельник, поправляет дугу, хомут, седелку.
Шевеля одним ухом, мерин тянется к отцу, шлепая отвислыми, мягкими губами.
— Узнал хозяина? — растроганно бормочет отец. — Ах ты… мо — орда!
Он треплет мерина по спутанной гриве, заботливо стирает гной из слезящихся глаз, отгоняет мух.
Со станции возвращаются неторопко, с разговорами. Их обгоняют, дымя пылью, звонкие тройки, тарантасы парой, телеги. Питерщики на сенокос валом валят. Раскрасневшаяся мать, сидя на узлах, правит лошадью. Она рассталась‑таки с ковровой шалью и без умолку передает отцу деревенские новости: кто умер, кто женился, у кого околела лошадь, кто прикатил из Питера с «березовым кондуктором», то есть пешком. Отец всем интересуется, расспрашивает.