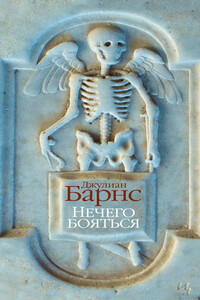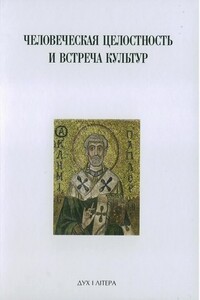Давайте же представим себе еще нечто, чего он не написал, — «Сцену кораблекрушения», в которой все действующие лица измождены до последней степени. Усохшая плоть, гноящиеся раны, щеки как у узников Бельзена — такие подробности без труда вызвали бы у нас сочувствие. Соленая вода хлынула бы из наших глаз под стать соленой воде на картине. Но подобный мгновенный эффект нехорош: уж слишком он примитивен. Полускелеты в отрепьях находятся в том же эмоциональном регистре, что и бабочка: глядя на первых, мы чересчур легко отчаиваемся, увидев вторую — чересчур легко утешаемся. Такие фокусы дело нехитрое.
Однако отклик, которого ищет Жерико, лежит дальше простой жалости и негодования, хотя эти чувства могут быть подобраны по пути, как путешествующие автостопом. Несмотря на весь свой конкретный характер, «Сцена кораблекрушения» полна мощи и динамизма. Фигуры на плоту точно волны: они тоже дышат энергией бушующего внизу океана. Будь они дистрофичны, чего требует правда жизни, они были бы не полноценными проводниками этой энергии, а скорее брызгами пены. Ибо взгляд наш скользит — не от скуки, не рассудочно, но будто подхваченный морским валом — на гребень, к фигуре зовущего, потом вниз, во впадину, к отчаявшемуся старику, затем по диагонали к распростертому справа трупу, который словно вливается в настоящие волны. Именно потому, что персонажи ее достаточно крепки и сильны для выражения этой мощи, картина высвобождает в нас более глубокие, подводные эмоции, увлекает нас приливами надежды и тревоги, душевного подъема, паники и отчаяния.
Что произошло? Картина снялась с якоря истории. Это уже не «Сцена кораблекрушения», тем более не «Плот „Медузы“». Мы не просто воображаем себе жестокие страдания людей на этом плоту; не просто становимся этими людьми. Они становятся нами. И секрет картины кроется в ее энергетическом заряде. Взгляните на нее еще раз: на эти мускулистые спины, в своем порыве к спасению водяным смерчем взмывающие к крошечному кораблю на горизонте. Весь этот буйный всплеск — ради чего? Главный импульс, заложенный в картине, остается, по сути, безответным, так же как безответно большинство человеческих чувств. Не только надежда, но любая обуревающая нас страсть: честолюбие, ненависть, любовь (особенно любовь) — часто ли эти стремления приводят нас к тому, чего мы, по нашему мнению, заслуживаем? Как тщетно мы взываем; как темно небо; как высоки волны. Все мы затеряны в море, мечемся по воле течений от надежды к отчаянию, хотим докричаться до спасительного корабля, но нас вряд ли услышат. Катастрофа стала искусством; однако это превращение не умаляет. Оно освобождает, расширяет, объясняет. Катастрофа стала искусством; может быть, именно в этом и есть ее главный смысл.
А как насчет той более давней катастрофы, потопа? Что ж, ранняя иконография представителя офицерства Ноя не таит в себе никаких сюрпризов. В первую дюжину с лишним веков христианства ковчег (обычно в виде простого короба или саркофага, намекающих на то, что спасение Ноя было предвестием выхода Христа из своей могилы) часто появляется в иллюстрированных рукописях, на витражах, в церковной скульптуре. Ной был весьма популярен: мы можем обнаружить его на бронзовых дверях Сан-Дзено в Вероне, на западном фасаде Нимского собора и восточном Линкольнского; он бороздит океан на фресках Кампо-Санто в Пизе и Санта-Марии Новелла во Флоренции; он бросает якорь на мозаике в Монреале, во Флорентийском баптистерии, в венецианском соборе Святого Марка.
Но где же великие полотна, знаменитые росписи, к которым все это должно было бы привести? Что случилось — неужто воды потопа пересохли? Не то чтобы так; но их направил в другое русло Микеланджело. В Сикстинской капелле ковчег (теперь похожий скорее на плавучую эстраду, чем на корабль) впервые теряет свое композиционное главенство; здесь он отодвинут на самый задний план. Передний же план занят теми допотопными горемыками, которых обрекли на погибель, в то время как избранник Ной со своим семейством удостоился спасения. Акцент сделан на брошенных, покинутых, отверженных, на грешниках — шлаке Господнем. (Позволительно ли счесть Микеланджело рационалистом, поддавшимся жалости и рискнувшим мягко упрекнуть Бога за бессердечие? Или же считать его набожным, верным своему папскому контракту и поучающим нас: вот что может случиться, если мы сойдем с прямых путей? Возможно, все дело тут в эстетике — художник предпочел очередному послушному изображению очередного деревянного ковчега извивающиеся тела про́клятых.) Какой бы ни была причина, Микеланджело переориентировал — и оживил — старую тему. Бальдассаре Перуцци, Рафаэль последовали его примеру; художники и иллюстраторы все чаще концентрировали внимание не на спасенных, а на покинутых. И с обращением этого новшества в традицию сам ковчег уплывал все дальше и дальше, отступая к горизонту, как «Аргус» по мере приближения Жерико к окончательному варианту картины. Ветер продолжает дуть, волны — катиться; ковчег постепенно достигает горизонта и исчезает за ним. В пуссеновском «Потопе» корабля уже нигде не видать; все, что нам осталось, — это группа отверженных страдальцев, которых впервые вывели на передний план Микеланджело и Рафаэль. Старик Ной уплыл из истории искусств.