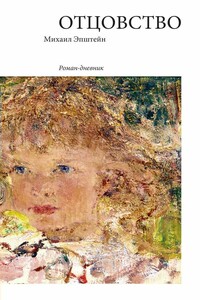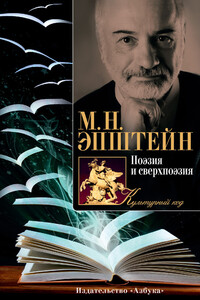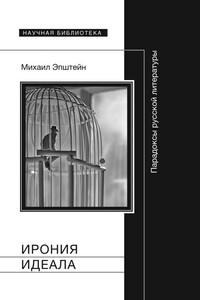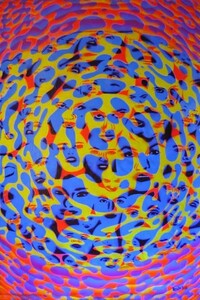Возможно, что «позитив» и «негатив» творчества соотносятся примерно так же, как квантовые частицы, – по принципу нелокальности. Когда совершается выпадение в «не», тогда вдруг, словно бы ниоткуда, рождается материальный знак, творческое нечто, сообразное этому творческому ничто. Они проявляются одномоментно, поскольку изменение (сдвиг состояния) в одной частице мгновенно вызывает изменение в другой, даже если они гипотетически находятся в разных концах Вселенной. В творческом сознании происходит некий щелчок, гештальт-сдвиг, оно на миг отключается, после чего видит уже другую картину мира, другое понятие, слово, дисциплину. Оно выключается из картины мира в одной точке, а включается в другой, которая принадлежит уже другой картине мира. Тем самым повторяется акт сотворения бытия из ничто. Этими «ирреалиями», выпадениями в ничто прослоена вся жизнь творческого сознания. Оно как бы засыпает – и пробуждается в иной реальности. Роль такого щелчка-пробела может выполнять сон, забвение, суета, отвлечение, когда мысль уходит от решаемой задачи, переключается на что-то другое, как бы погружается в сон – и вдруг пробуждается с готовым решением, которое приходит совсем не оттуда, где оно ожидалось: из другой реальности, которая в момент перехода выступает как ирреальность, как «нет». Есть глубокая симметрия в этих выпадениях из бытия и впадениях в бытие, с паузами посредине.
Апофатика и катафатика – это не просто теологические методы, способы познания Бога. Если они в равной степени адекватны своему «предмету» и взаимно дополнительны (как считал Фома Аквинский), значит, они отражают две стороны самого Бога: его бытие и его небытие, его свет и его мрак, его разум и его внеразумие… В этот момент моего рассуждения я поймал мысль «за хвост», когда она уже убегала от моей саморефлексии: я вдруг понял, что апофатика – это не просто отрицательный метод богопознания, но и познание небытия самого Бога, т. е. «не» находится не только в методе, но и в предмете познания. Это противоречит богословской конвенции, по которой апофатика – выражение неспособности человека познать Бога, его несоизмеримость нашим понятиям. Но у основоположника апофатики, Псевдо-Дионисия Ареопагита, как и у его крупнейшего продолжателя, Николая Кузанского, речь идет не только о познающем, но и о познаваемом, о том, что сам Бог содержит в себе ничто, небытие, что познавая его, мы вступаем во мрак и немоту. Вот такое переключение матрицы произошло в моей мысли: с метода на предмет богопознания… И тем самым сегодня, сейчас, родилась новая потенциальная дисциплина – апофатическая онтология, апо-онтология, а-онтология, т. е. апофатика бытия, а не только апофатика познания. Это пример мгновенного включения мысли в новой точке, в данном случае – перехода от одной клавиши-концепции к другой, от метода богопознания к предмету богопознания….
Творческая личность и поведение
В человеке-творце можно усмотреть те же два качества: всебытия и небытия, причем каждое из них возрастает соразмерно другому, в направлении и максимума, и минимума бытия, к всебытию и к небытию (об этом схождении абсолютных максимума и минимума писал Николай Кузанский в своем трактате «Об ученом незнании»). Этот процесс осуществляется не только в Боге-Творце и не только в человечестве как соборном творце цивилизации, но и в творческой личности, которая вступает в мир своими творениями – и выпадает из мира, отрешается от него, впадает в ничто, ничтожество. Это выпадение в ничто, пауза, и есть момент творческого сбоя в системе, импульс ее обновления. У А. Пушкина эти два качества: творчества и ничтожества – противопоставлены в образе поэта, но вместе с тем и соприсущи ему.
Пока не требует поэта /К священной жертве Аполлон, / В заботах суетного света / Он малодушно погружен; / Молчит его святая лира; / Душа вкушает хладный сон, / И меж детей ничтожных мира, / Быть может, всех ничтожней он. / Но лишь божественный глагол / До слуха чуткого коснется, / Душа поэта встрепенется, /Как пробудившийся орел. / Тоскует он в забавах мира, / Людской чуждается молвы, / К ногам народного кумира / Не клонит гордой головы; / Бежит он, дикий и суровый, / И звуков и смятенья поли, / На берега пустынных волн, / В широкошумные дубровы… («Поэт»)