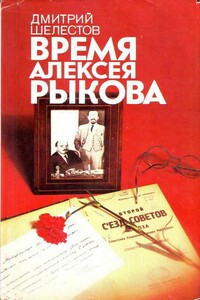В правовом государстве существование народного контроля — совершенно немыслимый факт, ибо, согласно традициям и практике цивилизованного общества, контроль могут осуществлять только специальные учреждения и организации, такие, например, как прокуратура, суд. Эти структуры в процессе своей многовековой истории выработали всеобъемлющие процессуальные правовые нормы, которые обеспечивают их эффективную деятельность, не нарушая при этом гарантированных законом прав граждан.
В этих учреждениях, и мне даже странно говорить об этом, работают сотрудники, имеющие специальное правовое образование. И невозможно себе представить, чтобы следствие и правосудие осуществляли некомпетентные пришельцы. И, конечно, невозможно себе представить суд без защиты, а судью и прокурора — в одном лице. Разумеется, правоохранительные структуры со всем своим формальным юридическим статусом все же могут быть умышленно деформированы, и мы были свидетелями знаменитых сталинских процессов, когда приговор был уже известен заранее, а судья, прокурор и защитник лишь тонко играли разученные роли. Но, обратите внимание, даже в те страшные времена они были вынуждены эти роли играть, то есть сохраняли видимость процессуальных норм, хотя бы видимость! И даже зловещая тройка как бы подразумевала, как бы намекала на существование прокурора, защитника и судьи. Таким образом, в интересах политического обмана и оболванивания осуществлялось манипулирование процессуальными нормами.
Что же касается ныне существующего народного контроля, то даже подобная манипуляция на его уровне просто невозможна. Во-первых, потому что основная масса народных контролеров, как правило, не имеет юридического образования, и во-вторых, потому что в этой грандиозной организации просто отсутствует, как я уже говорил, защитник, а прокурор и судья совмещены в одном лице.
Следует заметить, что действия органов юстиции опираются на законы, разработанные учеными, и на практику столетий. Эти законы известны, по крайней мере с ними можно ознакомиться. Действия народного контроля базируются не на законах, а на инструкциях, основания для которых и авторы которых неизвестны. Процессуальные нормы вообще не входят в понятие народного контроля.
Практика цивилизованных государств показывает, что в определенных случаях и для определенных целей к решению судьбы человека могут быть привлечены частные граждане, не имеющие юридического образования. Единственный тому пример — суд присяжных. Но институт присяжных заседателей формируется для целей, диаметрально противоположных тем, которые преследует народный контроль. При решении судьбоносных вопросов личности человеческие качества уважаемых людей используются для дополнительного противовеса в пользу обвиняемого. А народный контроль несет исключительно обвинительную функцию. Если контролер возвращается на базу без учиненного разрушения и разгрома, то он, по традиции этого учреждения, считается плохим работником. Председатель областного народного контроля на инструктаже внушает рядовым контролерам: „Если при разговоре с руководителем вы начинаете его понимать, значит вам не место в народном контроле“. Такое сочетание некомпетентности, обвинительного уклона и громоздкости аппарата привело на практике к формированию своеобразного ордена контролеров, связанных по иерархии железной исполнительной дисциплиной и отгороженных от закона и общества полной безнаказанностью.
Если в суде даже отпетый преступник имеет возможность оправдаться на людях, то здесь, в Комитетах народного контроля, любые возражения и оправдания воспринимаются как неслыханная дерзость и покушение на честь ордена. Кто возражает и кто оправдывается должен быть наказан еще сильнее, еще беспощаднее. Причем это не только делается, но и в открытую провозглашается: „Нам возражать нельзя“. И эти их слова с замиранием, уже шепотом, повторяют окружающие, наставляя и подготавливая очередную жертву, наставляя как бы из дружеских соображений, чтобы уменьшить наказание.
Структура народного контроля такова, что она исключает обжалование его действий в какой бы то ни было инстанции. Он вынесен за рамки закона, а потому и действует вне этих рамок, то есть творит беззаконие. Да, этот орган помещается в логику застойного периода как важный инструмент административно-командной системы. И действительно, он использовался этой системой в качестве жестокой и многофакторной узды. Но в логику правового государства, в логику многоукладной экономики этот анахронизм, конечно, поместиться не может, потому что его деятельность направлена исключительно на соблюдение собственных должностных инструкций, которые с переходом на рыночное хозяйство полностью теряют свое значение и смысл, а вместе с ними теряет свое значение и народный контроль, в лучшем варианте. Но, более вероятно, в худшем варианте они будут обозначать свое присутствие на карте России, загоняя хозяйственных руководителей в знакомое им стойло застойных времен. Я призываю вычеркнуть эту организацию из жизни нашего общества!»