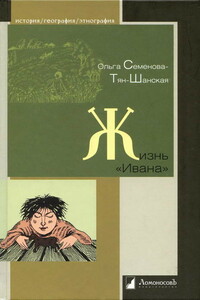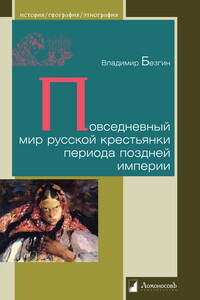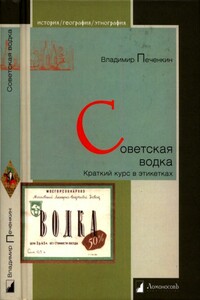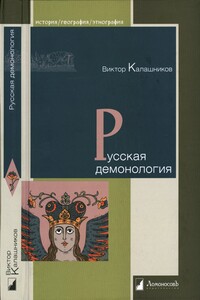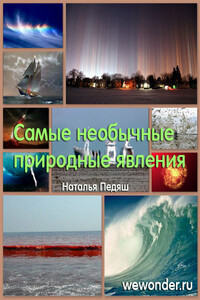Последующие авторы вплоть до рубежа эр (Эрасистрат и др.) мало интересовались гинекологией. Разъяснение и толкование терминов Гиппократовой медицины, в том числе и относительно гинекологии, дает словарь Эроциана, римского автора времен Нерона (I век).
Среди сохранившихся сочинений Клавдия Галена (129–199), второго великого врача древности, специальных сочинений, посвященных женщинам, нет.
Трактаты «Гинекология», «О матке и женских половых органах», «О женских болезнях» есть у Сорана Эфесского (II век), главы римской медицинской методической школы, однако новых достижений по сравнению с Гиппократом они практически не содержат.
К специальным трудам ранневизантийского времени в этой области можно отнести книгу Мусция (VI век), составившего компилятивный труд на основе «Гинекологии» Сорана, а также некоторые разделы сохранившегося синопсиса «Врачебного искусства» Орибасия Константинопольского (325–403), придворного врача Юлиана Отступника.
Особый интерес вызывает 4-я книга «Врачебного искусства» византийского врача VI века Аэция Амидского, посвященная болезням, передающимся половым путем.
Завершением ранневизантийской медицинской традиции можно считать труд Феофила Протоспафария «О человеческом теле» в пяти книгах (VII век), где говорится среди прочего и о женском организме.
В целом ранневизантийские медицинские тексты носят достаточно компилятивный характер, эклектичны, но содержат немало ценных практических наблюдений и рекомендаций.
Определенную информацию о состоянии медицины и врачебного дела можно почерпнуть также из житий святых.
Из сочинений более широкого богословского плана заслуживает пристального внимания трактат Немесия Эмесского «О природе человека» (время жизни автора определяют по-разному — от конца IV века до VI века), в 25-й главе которого описывается женская физиология вполне в духе античной традиции, точнее даже «Истории животных» Аристотеля и трудов Галена. «И женщины имеют все те же половые органы, что и мужчины, — только «внутри», а не «снаружи». Аристотель и Демокрит полагают, что семя женщины не имеет никакого значения для рождения детей: испускаемое женщинами, по их мнению, есть, скорее, пот от членов, чем семя. Гален, опровергающий Аристотеля, говорит, что женщины тоже испускают семя и что зародыш образуется от смешения того и другого семени — почему и совокупление называется смешением (μίξις), — но, конечно, семя — не столь совершенное, как мужское, но еще незрелое и более жидкое. Будучи таковым, семя женщины служит пищей для мужского. Из него же сплачивается некоторая часть плевы (χορίον), окружающей рога матки, и так называемое άλαντοειδές, что служит вместилищем экскрементов зародыша. Самка у животных всех видов тогда допускает самца, когда может зачинать. Таким образом те (виды), которые всегда могут зачинать, всегда допускают совокупление — каковы курицы, голуби и люди. Но другие (самки) после зачатия избегают соития: женщина же всегда допускает… Женщины, как в других отношениях обладают свободной волей, так и в отношении совокупления после зачатия».
Итак, одна из важнейших категорий в мироощущении человека — это его тело. Для женщины это характерно в значительно большей степени, нежели для мужчины, так как слишком многое для женщины в ее настроении, самочувствии, эмоциях, отношении к окружающему миру и особенно к самой себе зависит от состояния ее тела.
Ранняя Византия в светской жизни еще в значительной степени сохраняла классический культ красивого человеческого (прежде всего женского) тела, хотя уже с IV века многие христианские богословы повели бескомпромиссную борьбу с наготой, разжигающей похоть. Поэтому в IV–VI веках отношение постепенно христианизирующегося общества к женскому телу стало весьма сложным и неоднозначным, и в этом радикальное отличие ранневизантийского мира от классического. Христианство в теории предписывало аскетические нормы поведения, а сохранявшиеся античные традиции повседневной жизни этому в большой мере противоречили. Огромное количество проповедей Иоанна Златоуста дает нам яркую картину реальной (а не идеальной) бытовой жизни антиохийцев и константинопольцев на рубеже IV–V веков.