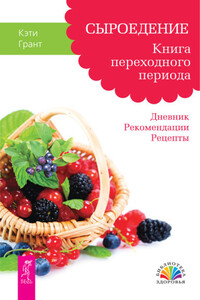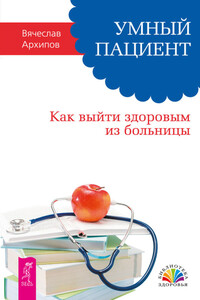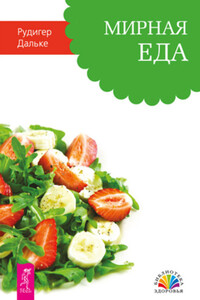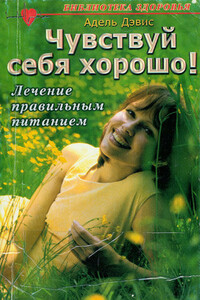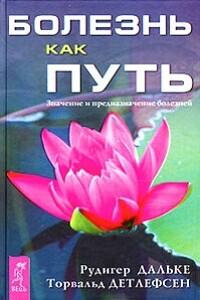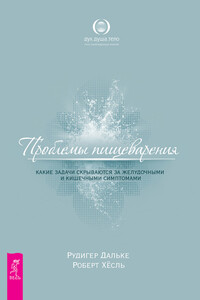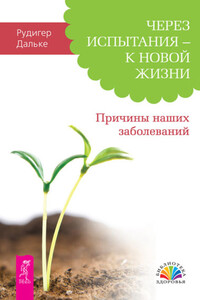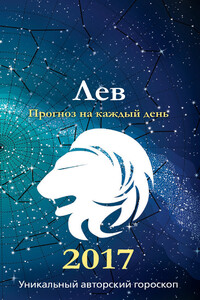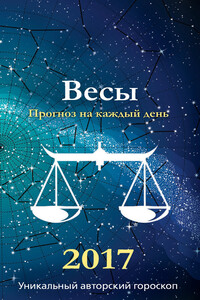Судите сами: если у кого-то есть острая нужда построить дом, вряд ли его остановит тот факт, что кто-то украл привезенные на стройку кирпичи, – он сделает дом из бревен. Человек откажется от намерения создать жилище только тогда, когда поймет, что все добываемые им материалы методично разворовываются. Но на уровне болезни «этот номер не пройдет»: ведь для того, чтобы болезнь больше не нашла себе «строительного материала», придется просто лишить пациента тела.
В своей книге мы занимаемся финальными (то есть целевыми) причинами болезни и пытаемся дополнить традиционный подход за счет недостающего второго полюса.
Необходимо подчеркнуть, что мы не отрицаем сущности изученных и описанных медициной материальных процессов, но не согласны с мнением, что они являются единственной причиной болезни.
Как уже говорилось, болезнь имеет цель, которую мы до сих пор описывали в ее абсолютной и общей форме как возвращение человеку цельности. Если мы разложим болезнь на множество симптоматических форм выражения, которые представляют собой последовательность шагов на пути к цели, каждый из симптомов можно будет исследовать на предметего цели и содержащейсяв нем информации, чтобы понять, какой из шагов в данный момент реализуется. Такой вопрос нужно задавать себе при изучении любого симптома. Содержательное значение, так же как и функциональную обусловленность, можно обнаружить всегда.
Итак, первое отличие нашего подхода от классического подхода к изучению психосоматики состоит в отказе от выбора симптомов. Мы считаем, что значение имеет каждый, без исключений.
Второе отличие – отказ от принятой в классической психосоматике модели, ориентированной на поиск причины заболевания в прошлом. Для нас второстепенны причины болезни, связанные с прошлым, будь то бактерии или злая мама. Их, как вы понимаете, может быть сколь угодно много, и все они одинаково важны или одинаково неважны. Наш подход можно описать с помощью «финальной причинности» или, еще лучше, с вневременной концепцией аналогий.
Человек обладает независимым от времени бытием, которое в течение времени он должен осуществить и сделать осознанным. Такой внутренний образец мы называем «Я есть». Жизненный путь человека – путь к самому себе, к этому «Я есть», что и является символом цельности. Человеку нужно время, чтобы найти самого себя, – ту цельность, которая присутствует с самого начала… Такой путь мы называем «эволюцией». Эволюция есть сознательная реализация всегда (то есть вне времени) существующего образца.
На пути к самопознанию встречаются ошибки и трудности, когда человек не может – или не хочет – видеть определенные части своего образца (тень). В симптомах болезни тень демонстрирует свое присутствие и материализуется. Пространство и время только мешают понять ее смысл: человек, вместо того чтобы осмысливать значение симптомов, начинает искать причины в прошлом и перекладывать на них вину.
Если мы изучим симптом с точки зрения его значения, то сможем увидеть часть своего собственного образца. Если же будем ориентироваться только на прошлое, то и там, безусловно, найдем самые разнообразные формы выражения этого образца: вчера и сегодня – это параллельные, адекватные формы выражения одного и того же круга проблем.
Для осуществления своих проблем ребенок постоянно использует родителей, братьев, сестер, учителей. Взрослые – своего партнера, детей, сослуживцев. Внешние условия не приводят к болезни, но человек использует любую возможность, чтобы поставить их на службу своей болезни. Человек сам превращает явления в причины болезни.
Больной – это преступник и жертва в одном лице. Он страдает от того, что не может осознать себя. Это простая констатация факта, в нем нет никакой оценки ни в чей адрес, потому что тень есть у каждого из нас (кроме «посвященных»). Хотелось бы предостеречь вас от попытки воспринимать события, отводя себе роль жертвы. Взяв на себя эту роль, вы лишаете себя возможности измениться.
Болезнь вызывают не бактерии и не излучение Земли. Сам человек использует и то, и другое в качестве инструмента для реализации своей болезни. (Так же, как живописное полотно создают не краски, а человек, использующий их как вспомогательные средства.)