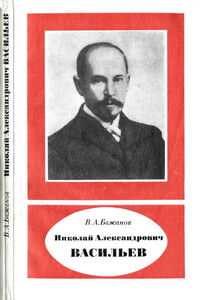У меня до сих пор стоит перед глазами вожак наших обидчиков: крепко сбитый, плотный парнишка с голубыми глазами, тёмными ресницами и детской комплекцией. Гарти спустился к ним по ступеням, и они сразу же бросились на него. Я бросился на помощь, но тут же был сбит с ног. Гарти кричал, чтобы я бежал наверх и принёс ему его спицу от колеса, которое стояло у нас как раз посреди зала. Я принёс ее, и Гарти начал отмахиваться ей. Вскоре ему удалось отогнать противников.
Назвав их трусами, мой брат предложил драку против любых двоих из них. Один из крупных мальчишек вышел вперёд и сказал, что готов сразиться против Гарти в одиночку. Мой брат задал ему такую трёпку, что с тех пор имя Гарти стало пугалом для всех окрестных мальчишек. Ни один из них никогда больше не смел называть нас «шини».
В результате той драки я узнал о предубеждении против евреев, что тогда было для меня внове, но позже мне много раз приходилось сталкиваться с этим явлением.
В Южной Каролине мы никогда не подвергались дискриминации за то, что были евреями. Мы принадлежали к одной из пяти или шести еврейских семей, проживавших в Камдене. Де Леоны и Леви поселились там ещё до революции. Баумы и Виттковские приехали в город позже. Но все были уважаемые граждане. Например, Де Леоны представляли собой многочисленный уважаемый клан, давший Конфедерации главного врача, а также посла во Франции. Я никогда не видел старого генерала Де Леона, так как он был одним из тех офицеров, кто отказался признать условия сдачи и предпочёл переехать в Мексику. Позднее он вернулся в страну по приглашению президента Гранта и закончил свои дни практикующим врачом на Западе.
Поскольку в Камдене не было синагоги, мама читала молитвы прямо у нас дома. По субботам мы надевали лучшие наряды и обувь, и нам не позволялось выходить со двора. Это было одним из наших лишений, так как суббота считалась в Камдене «большим днём», когда в город приезжали многочисленные жители окрестных ферм.
Из уважения к окружающим мама заставляла нас соответственно одеваться и «достойно себя вести» также и по воскресеньям.
Различие в религии заставляло жителей города испытывать лишь большее чувство взаимного уважения. В том, насколько высок был там авторитет моего отца, я имел случай убедиться лично, когда где-то в 1913 г. мне довелось вернуться в те места более чем через тридцать лет после того, как мы покинули город. От железнодорожной станции меня вёз возница-негр. Когда мы проезжали мимо нашего бывшего дома, он заметил:
– Здесь жил один доктор. Янки предлагали ему кучу денег за то, чтобы он уехал на Север. После того, как он уехал, люди в округе мёрли как мухи.
Мама была приверженицей кошерного дома, и для неё соблюдение еврейских праздников значило больше, чем для отца. В Южной Каролине отец возглавлял Еврейскую благотворительную ассоциацию, и я до сих пор храню у себя экземпляр письма с просьбой об отставке, которое он написал перед нашим отъездом в Нью-Йорк. В письме он призывал продолжать «сеять высокую мораль» иудаизма и Библии. Отец был человеком высоких моральных качеств, помню, он говорил мне:
– Я не верю, что где-то существует мстительный Бог, который стоит над людьми с мечом в руке.
Однажды отец позвал меня с братьями к себе в кабинет. Закрыв дверь, он попросил нас пообещать, что, когда он будет умирать, мы не позволим матери послать за раввином, чтобы тот зачитал ему еврейскую отходную молитву.
– Нет смысла пытаться обмануть Бога, когда уже слишком поздно, – пояснил отец.
Когда отцу было восемьдесят один год, он перенёс инсульт и понял, что умирает. Мама тоже болела и не могла встать с постели. Она лежала в комнате на втором этаже, а отец – на третьем. Мама умерла через полгода после отца.
Мама позвала нас и попросила послать за Фредериком Мендесом, раввином синагоги с 82-й улицы, чтобы тот прочёл над отцом последнюю молитву. Как это ни странно, за несколько дней до этого отец в очередной раз напомнил нам о взятом с нас обещании и добавил:
– Последнее, что я могу сделать для вас, мальчики, – это показать, как надо умирать.