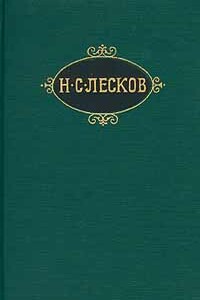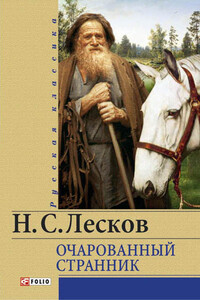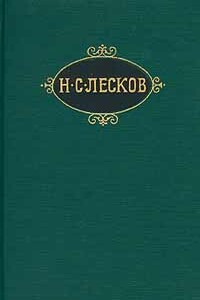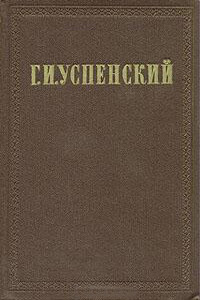Она обхватила руками шею дочери и, не переставая дрожать и плакать, жарко целовала ее в глаза, в лоб и в голову.
– Успокойтесь, мама, я всегда буду с вами.
– Со мною, да, со мною! – лепетала Софья Карловна. – Да, да, ты со мною. А где же это моя немушка, – искала она глазами по комнате и, отпустив Иду, взяла младшую дочь к себе на колени. – Немуша моя! рыбка немая! что ты все молчишь, а? Когда ж ты у нас заговоришь-то? Роман Прокофьич! Когда она у нас заговорит? – обратилась опять старуха к Истомину, заправляя за уши выбежавшую косичку волос Мани. – Иденька, вели, мой друг, убирать чай!
Ида кликнула кухарку и стала сама помогать ей, а Софья Карловна еще раз поцеловала Маню и, сказав ей: «Поди гуляй, моя крошка», сама поплелась за свои ширмы.
– Идочка! бабушка давно легла? – спрашивала она оттуда.
– Давно, мамаша, – ответила Ида, уставляя в шкафы перемытую посуду, и, положив на карниз шкафа ключ, сказала мне: – Пойдемте, пожалуйста, немножко пройдемтесь, голова страшно болит.
Когда мы проходили залу, Истомин стоял по-прежнему с Маней у гравюр.
– Куда ты? – спросила Маня сестру.
– Хочу пройтись немножко; у меня страшно голова болит.
– Это вам честь делает, – вмешался Истомин.
– Да, значит голова есть; я это знаю, – отвечала Ида и стала завязывать перед зеркалом ленты своей шляпы. Ей, кажется, хотелось, чтобы и Маня пошла с нею, но Маня не трогалась. Истомин вертелся: ему не хотелось уходить и неловко было оставаться.
– Ида Ивановна, – спросил он, переворачивая свои гравюры, – да покажите же, пожалуйста, какая из этих женщин вам больше всех нравится! Которая ближе к вашему идеалу?
– Ни одна, – довольно сухо на этот раз ответила Ида.
– Без шуток? У вас нет и идеала?
– Я вам этого не сказала, а я сказала только, что здесь нет ее, – произнесла девушка, спокойно вздергивая на пажи свою верхнюю юбку.
– А кто же, однако, ваш идеал?
– Мать Самуила.
– Вон кто!.. Родители мои, что за елейность! за что бы это она в такой фавор попала?
– За то, что она воспитала такого сына, который был и людям мил и богу любезен.
Истомин промолчал.
– А ваш идеал, сколько я помню, Анна Денман?
– Анна Денман, – отвечал с поклоном художник.
– То-то, я это помню.
– И должен сознаться, что мой идеал гораздо лучше вашего.
– Всякому свое хорошо.
– Нет-с, не все хорошо! Если бы вы, положим, встретили свой идеал, что ж бы, какие бы он вам принес радости? Вы могли бы ему поклониться до земли?
– Да.
– А я свой мог бы целовать.
– Вот это в самом деле не входило в мои соображения, – отшутилась Ида.
– Да как же! Это ведь тоже – «всякому свое». В песне поется:
Сей, мати, мучицу,
Пеки пироги;
К тебе будут гости,
Ко мне женихи;
Тебе будут кланяться,
Меня целовать.
Роман Прокофьич, видно, вдруг позабыл даже, где он и с кем он. Цели, ближайшие цели его занимали так, что он даже склонен был не скрывать их и поднести почтенному семейству дар свой, не завертывая его ни в какие бумажки.
Ида не ответила ему ни слова.
– Мама! – крикнула она, идучи к двери. – Посидите, дружок мой, в магазине. Запирать еще рано, – я сейчас вернусь.
Мы обошли три линии, не сказав друг другу ни слова; дорогой я два или три раза начинал пристально смотреть на Иду, но она не замечала этого и твердой походкой шла, устремив неподвижно свои глаза вперед. При бледном лунном свете она была обворожительно хороша и характерна.
Когда мы повернули к их дому, я решился сказать ей, что она, кажется, чем-то очень расстроена.
– Нет, чем же расстроена? У меня просто голова болит невыносимо, – ответила она, и с тем мы с нею и простились у их подъезда.
«А что это Софья Карловна все так совещательно обращается к почтенному Роману Прокофьичу? – раздумывал я, оставшись сам с собою. – Пленил он ее просто своей милой короткостью, или она задумала женихом его считать для Мани?»
«Не быть этому и не бывать, моя божья старушка. Не нужна ему Анна Денман, с руки ему больше Фрина Мегарянка», – решил я себе, и не один я так решил себе это.
Вскоре после того, так во второй половине марта, Ида Ивановна зашла ко мне, посидела, повертелась на каком-то общем разговоре и вдруг спросила: