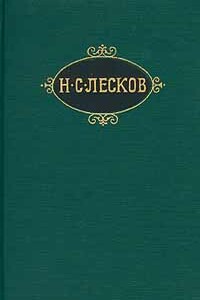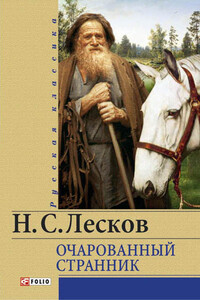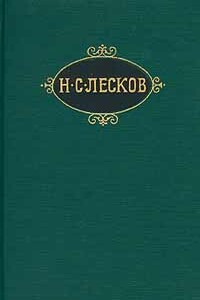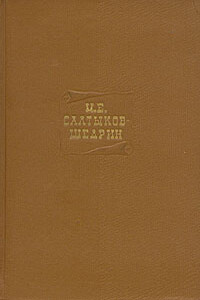Уроки начались; Шульц был необыкновенно доволен таким вниманием Истомина; мать ухаживала за ним и поила его кофе, и только одна Ида Ивановна молчала. Я ходил редко, и то в те часы, когда не ожидал там встретить Истомина.
Раз один, в самом начале марта, в сумерки, вдруг сделалось мне как-то нестерпимо скучно: просто вот бежал бы куда-нибудь из дому. Я взял шапку и ушел со двора. Думал даже сам зайти к Истомину, но у него не дозвонился: оно и лучше, потому что в такие минуты не утерпишь и, пожалуй, скажешь грустно, а мы с Романом Прокофьевичем в эту пору друг с другом не откровенничали.
Пойду, думаю, к Норкам, и пошел.
Прохожу по проспекту и вижу, что под окном в магазине сидит Ида Ивановна; поклонился ей, она погрозилась и сделала гримаску.
– Что это вы, Ида Ивановна, передразнили меня, кажется? – говорю, входя и протягивая через прилавок руку.
– А разве, – спрашивает, – видно?
– Еще бы, – говорю, – не видеть!
– Вот завидные глаза! А я о вас только сейчас думала: что это в самом деле такая нынче молодежь стала? Помните, как мы с вами хорошо познакомились – так просто, славно, и вот ни с того ни с сего уж и раззнакомливаемся: зачем это?
Я начал оправдываться, что я и не думал раззнакомливаться.
– Эх вы, господа! господа! ветер у вас еще все в голове-то ходит, – проговорила в ответ мне Ида Ивановна. – Нет, в наше время молодые люди совсем не такие были.
– Какие ж, – спрашиваю, – тогда были молодые люди?
– А такие были молодые люди – хорошие, дружные; придут, бывало, вечером к молодой девушке да сядут с ней у окошечка, начнут вот вдвоем попросту орешки грызть да рассказывать, что они днем видели, что слышали, – вот так это молодые люди были; а теперь я уж не знаю, с кого детям и пример брать.
– Это, – говорю, – кажется, ваша правда.
– Да, кажется, что правда; сами в примерах нуждаетесь – садитесь-ка вот, давайте с горя орехи есть.
Ида Ивановна двинула по подоконнику глубокую тарелку каленых орехов и, показав на целую кучу скорлупы, добавила:
– Видите, сколько я одна отстрадала.
– Ну-с, рассказывайте, что вы поделывали? – начала она, когда я поместился на другом стуле и вооружился поданной мне весовой гирькой.
– Скучал, – говорю, – больше всего, Ида Ивановна.
– Это мы и сами умеем.
– А я думал, что вы этого-то и не умеете.
– Нет, умеем; мы только не рассказываем этого всем и каждому.
– А вы разве все равно, что все и каждый?
– Да-с – положим, что и все равно. А вы скажите, нет ли войны хорошей?
– Есть, – говорю, – китайцы дерутся.
– Это все опять в пользу детских приютов? – умные люди.
– Папа, – говорю, – болен.
– Папа умер.
– Нет, еще не умер.
Ида рассмеялась.
– Вы, должно быть, – говорит, – совсем никаких игр не знаете?
– Нет, – говорю, – знаю.
– Ну, как же вы не знаете, что есть такая игра, что выходят друг к другу два человека с свечами и один говорит: «Папа болен», а другой отвечает: «Папа умер», и оба должны не рассмеяться, а кто рассмеется, тот папа и дает фант. А дальше?
– Дальше? – дальше Андерсена сказки по-русски переводятся.
– Ага! то-то, господа, видно без немцев не обойдетесь.
– Он, спасибо, Ида Ивановна, не немец, а датчанин.
– Это – все равно-с; ну, а еще что?
– Выставка художественная будет скоро.
– Не интересно.
– Неф, говорят, новую девочку нарисует.
– Пора бы на старости лет постыдиться.
– Красота!
– Ужасно как красиво! Разбейте-ка мне вот этот орех.
– Истомин наш что-то готовит, тоже, кажется, из мира ванн и купален.
Ида улыбнулась, тронула меня за плечо и показала рукою на дверь в залу. Я прислушался, оттуда был слышен тихий говор.
– Он у вас? – спросил я полушепотом.
Ида молча кивнула головою.
Слышно было, что говорившие в зале, заметя наше молчание, тоже вдруг значительно понижали голос и не знали, на какой им остановиться ноте. Впрочем, я не слыхал никакого другого голоса, кроме голоса Истомина, и потому спросил тихонько:
– С кем он там?
– Чего вы шепчете? – проговорила, улыбаясь, Ида.
– Я не шепчу, а так…
– Я так… Что так?.. Как это всегда смешно выходит!
Ида беззвучно рассмеялась.
Это и действительно выходит смешно, но только смешно после, а в те именно минуты, когда никак не заговоришь таким тоном, который бы отвечал обстановке, это бывает не смешно, а предосадно.