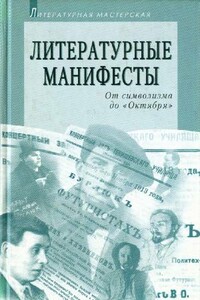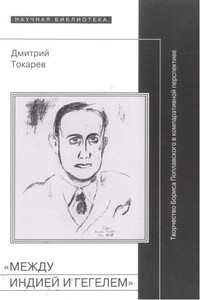Кстати, М. В. Ломоносов писал оды и такого содержания (1747 г.):
Возри в поля твои широки,
Где Волга, Днепр, где Обь течет:
Богатство в оных потаенно
Наукой будет откровенно…
Или ода (1750 г.):
Наполни воды кораблями,
Моря соедини реками
И рвами блата иссуши…
Ведь это же предвидение сегодняшнего дня!
В черновых набросках «Путешествия из Москвы в Петербург» Пушкин говорил о Ломоносове как «о величайшем уме новейших времен, о человеке, произведшем в науках сильнейший переворот и давшем им то направление, по которому текут ныне». Только человек, прекрасно знающий науку, ее историю, мог так сказать! Он отвергал сравнения Ломоносова с Бэконом, говоря «Ломоносов есть русский Ломоносов — этого с него, право, довольно».
Говоря по-современному, М. В. Ломоносов совершил в науках революцию, осуществлял на практике научно-технический прогресс, был провидцем, в научном понимании этого слова. Его выражение «Могущество государства Российского будет прирастать Сибирью» ныне стало крылатым.
Это о нем, о Ломоносове, о его судьбе писал поэт в стихотворении «Отрок»:
Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря;
Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака!
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям.
В первоначальном варианте стихотворения последний стих звучал:
Будешь умы удивлять, будешь сподвижник Петру.
Эти строки были написаны в Болдине. Возможно, глядя на географическую карту России, которая была у него здесь под рукой, Пушкин увидал на ней Архангельск и по ассоциации вспомнил Ломоносова.
Вот так — как будто бы неожиданно — могло возникнуть стихотворение «Отрок» о Ломоносове — гордости русского народа. А. С. Пушкин почитал его не только как великого ученого, но и человека. Черты его характера импонировали поэту, и он писал: «Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже́ у господа бога». В общем Ломоносов был для Пушкина образцом жизни и деятельности, которому он следовал.
«Замышлял о соединении Черного моря с Каспийским»
Последние шесть лет своей жизни А. С. Пушкин очень много работал над своим, можно сказать, великим трудом «Историей Петра I»[64]. Это, как его называл П. А. Вяземский, «труд многосложный, многообъемлющий, почти всеобъемлющий. Это целый мир»>2. «Но преждевременная смерть вырвала волшебное перо из творческих рук и надолго лишила Россию надежды иметь учено-художественную историю» Петра, — с сожалением отметил В. Г. Белинский>3.
Правда, не все современники смогли по достоинству оценить работу поэта над «Историей Петра I». Так, Е. А. Энгельгардт, бывший директор Лицея, в письме к Ф. Ф. Матюшкину 23 октября 1832 года писал: «Пушкин уже давно ничего не стихотворил; говорят, занимается Историей Петра Великого; не знаю, по нем ли дело — жизнь Петра величественна, удивительна, но жестокая проза»>4.
По поводу подобных заблуждений весьма примечательно высказывание приятеля поэта, находившегося с ним, как говорится, на «ты», дипломата Н. М. Смирнова: «Многие сомневались, чтоб он был в состоянии написать столь серьезное сочинение, чтоб у него достало на то терпения. Зная коротко Пушкина (и мое мнение разделено Жуковским, Вяземским, Плетневым), я уверен, что он вполне удовлетворил бы строгие ожидания публики; ибо под личиною иногда ветрености и всегда светского человека он имел высокий, принципиальный ум, чистый взгляд, необыкновенную сметливость, память, не теряющую из виду малейших обстоятельств в самых дальних предметах, высоко благородную душу, большие познания в истории, словом, все качества, нужные для историографа, к которым он присоединял еще свой блестящий талант как писатель»>5.
Но и в том, что сделал поэт, усматривается немало страниц «прекрасной пушкинской прозы»>6.
«История Петра I», по ее окончании, явилась бы документальным многоплановым произведением. В набросках к этому труду содержится немало материалов, касающихся и географии. Они отражают многогранную деятельность Петра I, его интересы, относящиеся к географии и смежным с нею наукам.
География была в числе наук, изучавшихся Петром I во время заграничного путешествия. По пути он делал географические наблюдения. Петр I хорошо понимал практическую важность географических знаний для преобразования России, для создания сильного государства. А. С. Пушкин отмечает: «Неверность тогдашних географических сведений была главною причиною погибели Бековича. Петр послал его удостовериться, точно ли река Аму-Дарья имела прежде течение в Каспийском море, но отведена бухарцами в Аральское