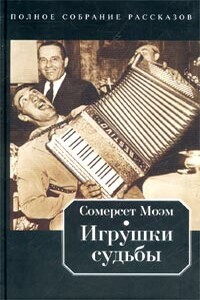— Выпьем, друг, — еле выговорил Грэй.
Я был тронут их искренней радостью при виде скитальца. Сознание, что он так много для них значит, не могло не быть ему приятно. Он широко улыбался. Однако мне было ясно, что он вполне владеет собой. Он заметил посуду на столе.
— Я бы выпил чашку чаю, — сказал он.
— Брось, какой там чай! — воскликнул Грэй. — Разопьем бутылку шампанского.
— Я предпочитаю чай, — улыбнулся Ларри.
Его хладнокровие, возможно умышленное, возымело свое действие. Они успокоились, хоть и продолжали смотреть на него влюбленными глазами. Я не хочу сказать, что на их вполне естественные излияния он отвечал холодно или свысока: напротив, он был донельзя сердечен и обаятелен; но в его манере я улавливал что-то, что не мог назвать иначе как отчужденностью, и причина ее была мне непонятна.
— Почему ты сразу к нам не пришел, ужасный ты человек?! — с притворным негодованием накинулась на него Изабелла. — Я пять дней не отходила от окна, все высматривала тебя, а от каждого звонка у меня сердце екало и во рту пересыхало.
Ларри лукаво усмехнулся.
— Мистер М. сказал мне, что в таком непотребном виде ваш слуга и на порог меня не пустит. Я слетал в Лондон обновить гардероб.
— Уж это вы зря, — улыбнулся я. — Могли бы купить готовый костюм в «Прентан» или «Ля бель жардиньер».
— А я решил — если принимать цивилизованный вид, так по всем правилам. Я десять лет не покупал себе европейской одежды. Я отправился к вашему портному и сказал ему, что мне нужен костюм через три дня. Он сказал, что сошьет за две недели, ну, и мы сошлись на четырех днях. Я вернулся из Лондона час назад.
На нем был синий костюм, отлично сшитый по его сухощавой фигуре, белая рубашка с мягким воротничком, синий шелковый галстук и коричневые ботинки. Волосы коротко подстрижены, лицо гладко выбрито. Вид не только аккуратный, но элегантный. Он буквально преобразился. Он был очень худ; скулы выдавались резче, виски запали глубже, глаза стали больше, чем мне помнилось по прежним временам; но выглядел он отлично, и, мало того, его дочерна загорелое, без единой морщины лицо выглядело поразительно молодо. Он был на год моложе Грэя, обоим недавно перевалило за тридцать, но Грэю можно было дать сорок лет, а Ларри — двадцать. У Грэя, большого, погрузневшего, все движения были медлительные и тяжеловесные, у Ларри — свободные, легкие. Держался он по-мальчишески весело и открыто, но я все время ощущал в нем какой-то невозмутимый покой, не свойственный тому юноше, которого я знал когда-то. И все время, что длился разговор, непринужденный, как всегда между старыми друзьями, которым есть что вспомнить, и то Грэй, то Изабелла подкидывали какие-нибудь мелкие чикагские новости, и все дружно смеялись и судачили о том о сем, легко переходя с одного на другое, я не мог отделаться от ощущения, что Ларри, хоть смеялся он от души и оживленную болтовню Изабеллы слушал с явным удовольствием, воспринимал все это как бы издали. Не то чтобы он играл роль — искренность его не вызывала сомнений. Но что-то в нем — не знаю, как это назвать: настороженность, чувствительность, сила? — отгораживало его от других.
Были вызваны девочки и сделали Ларри вежливый книксен. Он по очереди протянул им руку, глядя на них с подкупающей нежностью, и они, серьезно уставившись на него, подали ему ручку. Изабелла радостно сообщила, что они молодцы и учатся неплохо, дала им по тартинке и отослала в детскую.
— Когда уляжетесь, я приду и десять минут вам почитаю.
Сейчас ей не хотелось отрываться, уж очень она наслаждалась обществом Ларри. Девочки подошли проститься с отцом. И какою же любовью осветилось его грубое красное лицо, когда он прижал их к себе и расцеловал. Было ясно как день, что он гордится ими, души в них не чает, и, когда они ушли, он повернулся к Ларри и сказал с чудесной застенчивой улыбкой:
— Хорошие малышки, верно?
Изабелла ласково глянула на него.
— Грэю дай только волю, он избаловал бы их до смерти. Он бы дал мне умереть с голоду, лишь бы их кормить икрой и паштетом.
Он улыбнулся ей и сказал:
— Неправда, и ты сама это знаешь. Я тебя люблю больше жизни.