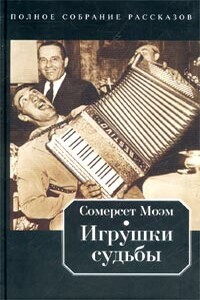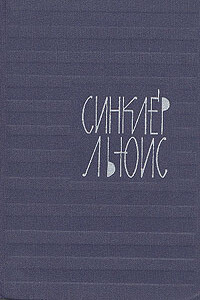— Стыдно? — воскликнул я невольно.
— Стыдно, потому что этот мальчик, всего на три-четыре года старше меня, такой подвижный и храбрый, за минуту до того полный жизни и всегда такой славный, превратился в груду искромсанного мяса, так что и не верилось, что только что это был живой человек.
Я промолчал. Я видел немало мертвецов в свою бытность студентом-медиком и еще много больше — во время войны. Меня-то всегда угнетало, какой у них жалкий, ничтожный вид. В них не было ни на грош благородства. Марионетки, которых кукольник выбросил на помойку.
— В ту ночь я не мог уснуть. Я плакал. За себя я не боялся, я был глубоко возмущен. Бессмысленная жестокость смерти, вот с чем я не мог примириться. Война кончилась, я вернулся домой. Меня всегда тянуло к машинам, и я хотел, если ничего не выйдет с авиацией, пойти на автомобильный завод. После ранения меня сначала не тормошили, но потом они захотели, чтобы я начал работать. А за такую работу, как они хотели, я не мог взяться. Она мне казалась никчемной. У меня было время подумать. Я все спрашивал себя, зачем нам дана жизнь. Мне-то просто повезло, что я выжил, и хотелось на что-то употребить свою жизнь, а на что — я не знал. О Боге я раньше никогда не задумывался, а теперь стал о нем думать. Я не мог понять, почему в мире столько зла. Я понимал, что очень мало знаю, обратиться мне было не к кому, и я стал читать что попало.
Когда я рассказал все это отцу Энсхайму, он спросил: «Значит, вы четыре года читали. И к чему вы пришли?»
«Ни к чему не пришел».
Он поглядел на меня так любовно, что я смешался. Чем я мог вызвать в нем такую приязнь? Он стал тихонько барабанить пальцами по столу, словно что-то обдумывая, и наконец заговорил:
«Наша мудрая старая церковь пришла к выводу, что, если человек поступает как верующий, вера будет ему дана; если он молится сомневаясь, но молится искренне, сомнения его рассеются; если он покорится красоте богослужения, власть коей над человеческим духом доказана многовековым опытом, мир снизойдет в его душу. В скором времени я возвращаюсь к себе в монастырь. Не хотите ли вы поехать со мной и пожить у нас несколько недель? Вы могли бы работать в поле с нашими младшими монахами, могли бы читать в нашей библиотеке. Как переживание это будет не менее интересно, чем работа в угольной шахте или на немецкой ферме».
«А почему вы мне это предлагаете?»
«Я вас наблюдаю три месяца. Возможно, я знаю вас лучше, чем вы сами себя знаете. Стена, отделяющая вас от веры, не толще листка папиросной бумаги».
На это я ничего не сказал. У меня было странное чувство, точно кто-то ухватил меня за самое сердце и тянет. Я сказал, что подумаю. Он заговорил о другом. Потом до его отъезда из Бонна мы больше не говорили ни о чем связанном с религией, но, уезжая, он дал мне адрес своего монастыря и сказал, что, если я надумаю приехать, надо только черкнуть ему, и он все устроит. Я и не думал, что буду так о нем скучать. Время шло, лето уже было в разгаре. В Бонне все шло хорошо. Я читал Гете, Шиллера, Гейне, читал Гельдерлина и Рильке. Но по-прежнему топтался на месте. Я часто вспоминал отца Энсхайма и наконец решил воспользоваться его приглашением.
Он встретил меня на станции. Монастырь был в Эльзасе, в живописной местности. Отец Энсхайм представил меня настоятелю, потом провел в келью, где мне разрешено было жить. Там стояла узкая железная кровать, на стене висело распятие, а мебель была только самая необходимая. Зазвонил колокол к обеду, и я пошел в трапезную. Это была огромная палата со сводчатым потолком. В дверях стоял настоятель с двумя монахами, один держал таз, другой полотенце, и настоятель в виде омовения брызгал водой на руки гостей и вытирал их полотенцем, которое подавал ему монах. Гостей, кроме меня, было еще трое: два священника, ехавшие куда-то по своим делам и задержавшиеся здесь пообедать, и ворчливый пожилой француз, на время удалившийся от мира.
Настоятель и два приора, старший и младший, сидели в верхнем конце трапезной, каждый за своим столом, ученые монахи — вдоль двух длинных стен, а монахи-работники, послушники и гости — за столами посреди комнаты. Была прочитана молитва, и мы поели. Один из послушников, стоя в дверях, монотонно читал из какого-то назидательного сочинения. После обеда опять прозвучала молитва. Потом настоятель, отец Энсхайм, гости и тот монах, в чьем ведении они находились, перешли в небольшую комнату, где попили кофе и побеседовали о том о сем. А потом я вернулся в свою келью.