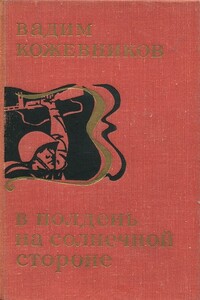— Как в темную яму свалился. Ничего особенного, все падал, все проваливался.
— Ну вот что, — сказал хирург. — Теперь у тебя расчет только на саморемонтное действие организма. Постарайся думать о чем-нибудь приятном. Из всех медикаментов самый надежный — радость.
— Я всем тут довольный.
Хирург сказал:
— Я вот читал: у армии-победительницы при относительно равном количестве раненых с противником большее количество выздоравливающих. Объясняется психоморальным фактором.
Буков возразил:
— А почему же тогда в самые для нас тяжелые годы войны дезертирство из санбатов было? Приплетутся на передовую в сырых бинтах и симулируют, будто почти уже все зажило. И ничего. Если в новом бою не убивали, выздоравливали.
— М-да, — произнес хирург. — Замечание вразумительное. У меня даже один генерал сбежал сразу после ампутации кисти руки. Но через две недели я ему уже до плечевого сустава отнял. Прохожу мимо палаты в тот же день после операции, слышу крик, ругань отчаянную. Открываю дверь, орет в трубку полевого телефона, почти с теми же выражениями, которые он при наркозе допускал. Объясняет: «С начальником боепитания беседовал».
Приказываю сестре произвести инъекцию. А он ни в какую — с детства, мол, уколов не переносит.
Пожилой, здоровье на исходе. А вел себя, как мальчишка. В анамнезе соврал. Почки одной нет, сердечная недостаточность. А он: никогда ничем не болел, здоров как бык — и возраст себе сбавил.
Объявил:
— И ты тоже хорош! Вставать нельзя, а ты к окну полез.
— Липы зацвели. Красиво!
— Ты бы лучше за санитарками наблюдал, вон они у нас какие фигуристые.
— Внимательные, — вяло сказал Буков.
— Жалуются на тебя, — строго сказал хирург, — под-сов дают, а ты на нем работать стесняешься. Персонал, значит, не уважаешь. С них же требуют, чтобы у тебя нормальный стул был. — Заметил строго: — Для медицинского работника нормальное функционирование организма у выздоравливающего показатель. А ты нам эти показатели снижаешь. — Погладил Букова по плечу: В общем и целом я тобой доволен, оперировать — одно удовольствие, сердце сильное, кровь хорошей сворачиваемости, ткани упругие, словом, материал замечательный, жизнестойкий.
Первыми навестили Букова Дзюба и Кондратюк. Увидев отощавшего, бледного, без усов, с коротко остриженными волосами Букова, Дзюба жалостливо осведомился:
— Это что же, выходит, ты совсем еще молодой? Скажи пожалуйста, на вид совсем парнишка. И усов нет — это что же, теперь в обязательном порядке срезают? Во время войны в госпиталях не трогали, — и бережно погладил свои усы, густые, черные, основательные.
Кондратюк, подхватывая этот разговор, заявил решительно:
— Я бы не позволил. Усы — личная собственность солдата. На казенный образец только башку стричь положено. Усы — это армейская мода со смыслом, без горячей воды губу не пробреешь, самое нежное место.
Кондратюк рассказывал:
— Хлопушку под крышку смотрового люка я заложил аккуратно на выброс. Шугануло вместе с камнем, которым была завалена, эффектно сработал. Добавил сдержанно: — Предоставил таким способом тебе скорую помощь, вынес наружу, на свежий воздух. А знаешь, Зуев хоть нам всем благодарность объявил, но замечание сделал, недовольство высказал за то, что из тех, этих самых, ни один ему для допроса не пригодился: испортили наповал.
Нескольких он для себя все-таки прихватил — изловил в боковых ходах, теперь с ними канителится, беседует. Судить будут по всей форме закона. А нас зачислил в свидетели. Смешно. Какие же мы свидетели? Свидетели — это же кто со стороны чего-нибудь видел.
Немцев гражданских на экскурсию Зуев водил, подземную коммуникацию показывал, разъяснял, какую пакость фашисты напоследок учинить собрались. Теперь он среди местного населения — фигура.
Дзюба, опустив глаза, сказал тихо:
— Когда Лунникова хоронили всем гарнизоном, глухонемая тоже за гробом шла. Стали опускать в землю. Она кинулась и вдруг закричала. Ну, нам не до нее. Потом Зуев первым спохватился: как же так, считали глухонемой, а на деле что? Маскировка?
В санчасти разъяснили: на нервной почве от повторного потрясения голос снова появился.