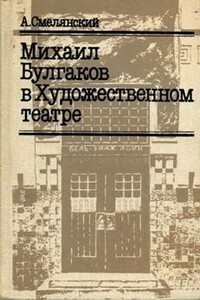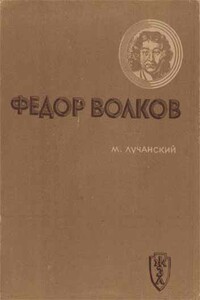Участие в подобных играх есть потребность любого психически нормального человека. Субъект, лишенный возможности участвовать в таких играх испытывает дискомфорт, вплоть до физического недомогания.
Художницы Кэте Кольвиц вспоминала: "Помню день рождения, когда мне исполнилось девять лет, - это был черный день. С тех пор я не люблю число "9". Мне подарили кегли. Вечером, когда все дети начали в них играть, меня - не помню уже из-за чего - в игру не приняли. У меня сразу заболел живот. Эти боли были источником телесных и духовных страданий... Мать знала, что за болями в животе скрывается у меня горе. Она сажала меня рядом с собой и крепко прижимала к себе".
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ИГРЫ.
Эмоциональные игры, к ним мы собственно относим "азартные игры", являются своеобразным обманом природы. В такой игре субъект получает "удовольствие" не усваивая при этом новой информации. Они характеризуются стабильностью правил (условий) игры и ситуаций, и потому не нуждаются в Руководителе игры.
4.
"Функция зрителя - если говорить об идеальном зрителе, присутствующем на идеальном спектакле, - в том, что его мысли, его внимание подвергаются постоянному воздействию, все время "переключаются". В какой-то момент он полностью вовлечен в действие, в следующее мгновение - сознает, что он в театре... И в этом его роль - чрезвычайно важная роль – быть участником игры".
Ингмар Бергман.
ИГРА, КАК ЗРЕЛИЩЕ.
Учебно-эмоциональные игры характеризуются также тем, что помимо игроков (непосредственных участников игры) в них принимают участие группа субъектов, которую мы условно назовем - "болельщиками".
Именно принимает участие, поскольку вступает в действие механизм, называемый в психологии "отождествлением" (идентификацией).
Отождествляя себя с тем или иным игроком "болельщик" принимает участие в игре, в то же время имея возможность оценивать эту игру со стороны.
Таким образом, он с одной стороны переживая нестандартные, острые ситуации игры, компенсирует, "добирает" тот дефицит эмоций, что существует в обыденной жизни среднего человека в стабильном обществе, с другой стороны, отождествление позволяет ему, не затрачивая труда усваивать новые стереотипы поведения, возникающие в процессе игры. Так что, обвинения в адрес кинематографистов, в том, что некоторые виды кинопродукции (боевики, триллеры, фильмы ужасов и т.д.) провоцируют рост агрессивности в обществе, не так уж и беспочвенны, ведь эти фильмы предлагают зрителю-болельщику определенные стереотипы решения жизненных проблем и поведения в нестандартных ситуациях.
Учебно-эмоциональные игры не могут существовать без зрителя-болельщика. Болельщик непременное условие их существования. Даже детям в их играх необходим болельщик. Игра идет для болельщика, и он необходим ей, как аппарат ее оценки.
Все это и дает нам право называть учебно-эмоциональные игры - зрелищными. А понятие"зрелище"характеризовать, как игру для болельщиков.
Эта игра "для болельщиков породила совершенно особый вид учебно-эмоциональных игр, которые принято называть искусством.
5.
"Когда создаешь произведение искусства, стараешься, хотя порой и безуспешно, разобраться в том, что ты сам имел ввиду. Все это непреднамеренная игра, она очень важна и серьезна, и, тем не менее, весьма случайна и бессмысленна, - и со временем ты осознаешь это все больше и больше. Я хочу сказать, что было бы ошибочно забывать о том, что речь тут идет об игре и что ты просто обладаешь определенной привилегией, позволяющей тебе ритуализировать множество конфликтов в тебе самом и вокруг тебя".
Ингмар Бергман.
Являясь по всем параметрам игрой, искусство стоит особняком от иных игр не только в общественном сознании, но и по способу своего существования.
Искусство переросло непосредственно игровые функции своих игр и преобразовалось в форму общественного сознания. Наряду с моралью, правом, политикой, религией, философией и наукой, оно определяет сам облик цивилизации.
Все формы общественного сознания делятся на две большие группы: познавательные (философия, наука, искусство) и регулятивные (мораль, право, политика), а также переходную, познавательно-регулятивную форму - религию.