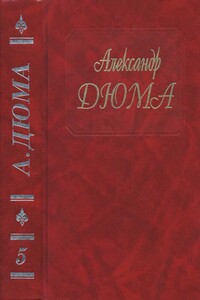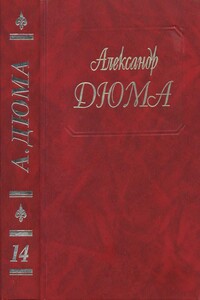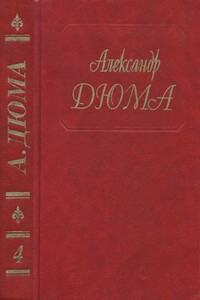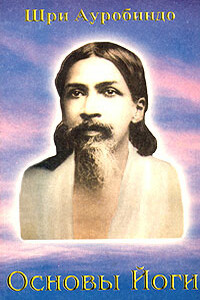Но многое в европейском искусстве, пользующееся самым высоким признанием, не вызывает у меня духовной симпатии. Например, некоторые из известнейших вещей Тинторетто – не портреты, ибо они затрагивают душу, пусть даже только активную и характерную, но, скажем, «Адам и Ева» или «Святой Георгий, пронзающий дракона», или «Явление Христа венецианским сенаторам» вызывают у меня чувство недоумения и пустоты. Я вижу великолепие и силу красок и рисунка, я вижу силу воплощенного с помощью внешних средств воображения и живость и драматизм изображенного действия, но я тщетно ищу смысла, скрытого под поверхностью, чего-то равного великолепию формы, есть лишь отдельные намеки на это, но их недостаточно для меня. Когда я пытаюсь проанализировать причины своего безразличия, я сначала виню в нем некоторые концепции, противоречащие моим ожиданиям или моему взгляду на вещи. Этот мускулистый Адам, чувственная красота этой Евы не вызывают во мне ассоциаций с отцом и матерью рода человеческого, дракон кажется мне просто раздраженной, зловещей тварью, которая вот-вот будет убита, но никак не творческим олицетворением чудовищного зла, Христос с его массивным торсом и добродушным философским ликом почти оскорбляет меня, во всяком случае, это не тот Христос, которого я знаю. Но все это в конечном счете вещи случайные, по-настоящему проблема в том, что я подхожу к этому искусству с заранее сформулированными требованиями определенного рода видения, воображения, эмоций и смысла, которые оно не может удовлетворить. И не будучи настолько самоуверен, чтобы предположить, что произведения, вызывающие восторг крупнейших критиков и художников, восторгов не заслуживают, я удерживаю себя от применения тех методов, с помощью которых мистер Арчер судит об индийском искусстве, и не говорю, что само исполнение прекрасно и блистательно, но это только поверхность, за которой ничего нет, никакого воображения. Я понимаю, что на самом деле картинам недостает воображения того типа, который требуется лично мне, но хоть мой приобретенный культурный ум и втолковывает это мне и даже может интеллектуально кое-что мне подсказать, мое естество бунтует, меня подавляет, а не возвышает этот триумф жизни, плоти, жизненной силы и движения – я не ничего не имею против самих этих вещей, против акцента на чувственном или даже плотском, элементы этого отнюдь не отсутствуют и в индийской традиции, но при условии, что за всем этим я найду хоть толику того глубокого, что мне нужно, – я ловлю себя на том, что отворачиваюсь от картины одного из величайших итальянских мастеров и ищу удовлетворения в произведении «варварского» индийского искусства, в картине или скульптуре, в каком-нибудь отрешенном, непроницаемом Будде, бронзовом Шиве или восемнадцатирукой Дурге, расправляющейся с асурами. Но причина моей неспособности понять – во мне, в том, что я ищу нечто, изначально не существовавшее в духе этого искусства, чего я и не должен был ожидать в его характерном творении. Воспитай я себя в духе Ренессанса или в первичном эллинистическом духе, я бы мог кое-что добавить к моему внутреннему опыту и приобрести более широкий и универсальный эстетический вкус.
Я подчеркиваю это психологическое непонимание или недостаток понимания, потому что оно объясняет отношение естественного европейского ума к великим произведениям индийского искусства и позволяет дать ему верную оценку. Этот ум воспринимает только то, что сродни европейскому, но и это естественно и справедливо оценивает как второстепенное, поскольку то же самое в западном искусстве делается с большей искренностью и совершенством, ибо взращивается родными соками. Этим объясняется удивительное предпочтение, отдаваемое критиками, более подготовленными, нежели мистер Арчер, гибридной гандхарской скульптуре[89] перед великими и искренними произведениями, оригинальными и истинными в своей цельности – гандхарской скульптуре, неудачному, можно сказать, бестолковому, сопряжению двух несовместимых мотивов, несовместимых хотя бы потому, что один мотив не сливается с другим, а они в этом случае не сливаются никак; или же ничем иным не объяснимые восторги в отношении второсортных и третьесортных произведений на фоне неприятия других, благородных и глубоких, но непривычных их вкусам. Или же европейский ум дает высокую оценку – вот только действительно ли основанную на полном и глубоком понимании? – вещам типа тех, что принадлежат индо-сарацинскому искусству