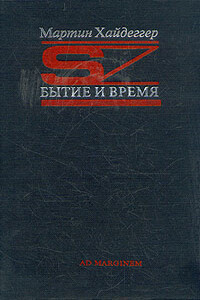Основные понятия метафизики. Мир – Конечность – Одиночество - страница 40
Четвертое толкование, по существу, движется в орбите третьего, но в то же время вбирает в себя первое и второе. В какой-то мере оно — самое несамостоятельное, и с философской точки зрения — самое несостоятельное. Его стоит только упомянуть, потому что оно привносит некоторую историческую категорию в характеристику нашего сегодняшнего положения и ожидает нового Средневековья. Средневековье здесь не следует понимать как возрождение определенной исторической эпохи, которую мы знаем, но, правда, понимаем совершенно по-разному: на самом деле это именование намекает на третье толкование. Имеется в виду промежуточно-посредническая эпоха, которая, по замыслу автора, должна привести к новому снятию противоположности «жизни и духа». Представитель этого четвертого толкования — Леопольд Циглер и его книга «Европейский дух»>33.
Это лишь краткое и формальное указание на то, что сегодня только в таком виде и знают, о чем говорят, что отчасти уже снова позабыли, — толкования, которые частично заимствованы из вторых и третьих рук и оформлены в некую общую картину; нечто такое, что в дальнейшем пронизывает собой высокую журналистику нашего века и создает — если можно так сказать — то духовное пространство, в котором мы движемся. Если в сделанном нами указании на четыре истолкования нашего положения захотят увидеть нечто большее, чем оно на самом деле собой представляет, а представляет оно лишь указание, тогда оно обязательно будет несправедливым, потому что слишком общо. И все-таки для нас существенна и важна основная черта этих толкований или, лучше сказать, та перспектива, в которой все они видят наше сегодняшнее положение. Это отношение между жизнью и духом, если опять-таки говорить формально. И не случайно, что эту черту мы обнаруживаем в ее столь формальном различии и противоположности.
Глядя на это различие и оба главных слова сразу скажут, что, заговорив о них, мы затронули давно известное; как с их помощью можно схватить своеобразие сегодняшнего и будущего положения человека? Но было бы ошибкой видеть в обоих титулах простое обозначение двух составных частей человека (душу (жизнь) и дух), двух составных частей, которые издавна за ним признавали и о соотношении которых издавна спорили. Напротив, эти титулы по своему смысловому содержанию восходят к определенным основным установкам человека. Если именно так мы и будем воспринимать эти выражения, тогда действительно легко обнаружится, что здесь речь идет не о теоретическом прояснении отношения между духом и душой, а о том, что имеет в виду Ницше, говоря о дионисийском и аполлоническом. Таким образом, и все четыре толкования возвращаются к этому общему источнику — к Ницше и определенному его пониманию. Все четыре толкования возможны только при определенном восприятии ницшевской философии. Это указание сделано не для того, чтобы поставить под вопрос оригинальность толкований: у него лишь одна цель — показать то место и источник, в соотнесении с которыми и должно совершаться разбирательство как таковое.
b) Основная ницшевская противоположность между дионисийским и аполлоническим как источник четырех толкований нашего сегодняшнего положения
Здесь мы не можем вдаваться в подробное рассмотрение того, как Ницше понимал эту основную противоположность. Рассмотрим ее лишь в той мере, которая дает возможность увидеть, о чем идет речь. Позднее мы яснее увидим, насколько можно освободиться от этой задачи интерпретации четырех толкований нашего положения и их источника.
Противоположность Дионис—Аполлон довольно рано начинает нести и направлять философствование Ницше. Он сам знал это. Противоположность, заимствованная из античности, должна была раскрыться юному филологу-классику, желавшему порвать со своей наукой. Но он также знал, что как бы эта противоположность ни упрочивалась в его философствовании, она меняется вместе с этим последним. Он сам знал: «Лишь тот мне родствен, кто всегда в дороге». Я намеренно хотел бы обратить внимание на то последнее толкование, которое он дал в своем большом и решающем труде, том труде, который ему не дано было совершить так, как он его задумал, — в «Воле к власти». Заголовок второго раздела IV книги гласит: «Дионис»