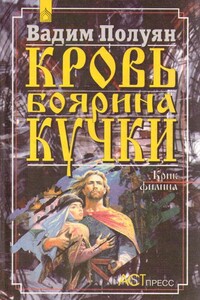Теперь же в селе Ослебятеве тягостная княгиня изнывала от тоски. Две госпожи с прислужницей занимали одну избу Старостиных хором. В другой - через мост жили братья Юрьичи. Часто вхож к ним был Андрей Фёдорович Голтяев. Допрежь он случайно заметил Всеволожу в обозе, с коим двигалась кареть. Весьма удивился. Благодарствовал за спасение из великоустюжского несчастья. Узнав в ней невесту Красного, поздравил и пожелал всех благ. Более не говаривали, пока не прибыли в Ослебятево, людное село под самым Белёвом. Здесь долетал до неё зычный глас Голтяева из мужской избы. О чём шла речь, было не понять. Софьины жалобы заполняли уши: «Пошла в задец, а там во-о-от такая крыса!» - показала она зверя величиною с зайца. «На крытом дворе сапожок утонул в грязи, прискакала на одной ноге!» Ну что ты с ней будешь делать! Вот и сейчас упрекает не прямо, а исподволь подводит к тому, что именно из-за Всеволожи претерпевает несличные княгине мучения. Своего Митю не винит.
Евфимия не находит слов для успокоения. Все мысли о сумрачном женихе. Накануне приходил к ней в боковушу-истобку, печалуясь: многочисленная рать, вверенная братьям, не оставила от Москвы до Белёва ни единого селения в целости. Воины всюду грабили, отнимали скот, имение, нагружали возы добычею. «Не воевод видит в нас народ, а разбойничих атаманов!» - сетовал младший Юрьич. Брат не радел о порядке, Голтяев и Лобан Ряполовский не управлялись с полчанами. А уж сам он и того паче. «Не воист я, любезная Евфимия. Не гожусь в вожди», - вздыхал Дмитрий. «Вижу, всё вижу, любый мой, - гладила руку князя невеста. - Истомилась от безнарядья. Шемяка попустительствует крадежникам. С какой стати? Ведь конец будет отвечать началу. Это ли ему потребно при тайной вражде к Василиусу?» От такого предположения Красный ещё более мрачнел. Чем утешишь?
А тут Софья с плачущими очами, с жалобными речами:
- Слыхивала от здешней старостихи: татары терзают русских, как волки стадо овец. Люди падают ниц пред погаными, ждут решения судьбы. А им отсекают головы, расстреливают в забаву. Иных избирают в невольники, иных обнажают, оставляют несчастных в жертву страшному холоду, неизбежной смерти. Пленных связывают, аки псов на смычке, гонят пред собой человек по сорок…
- Тише, Софьюшка, - прервала Евфимия. - Слышишь, в мужеской избе вновь собор?
- Говорят, в Белёве татары православный собор в мезгит превратили, в мечеть, - продолжала своё княгиня.
- Хочешь, послушаем воевод? - предложила боярышня. - Взлезем на избу, под крышу, откроем заслонку в печной трубе… Слышно, будто рядом стоишь.
- Нужно-то мне любоперье слушать! - возмутилась княгиня, видя в воеводах лишь ярых спорщиков.
Всеволожа взошла на избу одна. Голос татарского мурзы был искателен, даже подобострастен. Он предлагал через нашего толмача:
- Царь отдаёт в залог сына своего Мамутека. Сделает всё, что требуете. Когда Бог возвратит ему царство, будет блюсти землю вашу, перестанет брать дань…
- Испугались? - перебил голос Шемяки. - Передайте Улу-Махмету: великий князь отвергает его посулы. Нас много, вас мало, говорить не о чем.
Евфимия оспешйлась сойти с избы до ухода татар. В боковуше-истобке ворчала Софья: - Где твоя «чесотка да таперичи»? Пусть несёт поесть.
- Тотчас биться будут, - сообщила боярышня. - Сдвинутся под Белёвом две рати…
- Кому биться, а кому есться и питься, - возразила княгиня. - Капусты квашеной хочу, яблок мочёных!
Когда ж от недальних белёвских стен долетел до села, проник в избяную тишь тысячегорлый рёв рати, Софья забыла про капусту и яблоки.
- Митя! Митенька мой! - пала она с воплем на одр.
Всеволоже было известно, что к Белёву пришло двадцать тысяч москвитян, десять тысяч рязанцев, столько же тверичан. Все они бросились на Улу-Махметовых воев, вышедших для защиты города. Боярышня, содрогаясь, ждала вестей об исходе битвы. У неё был в мыслях свой Митенька…
Наконец он явился, уксусно-потный, грязный.
- Одоление! - закричал с порога. - Вогнали в крепость татар. Убили зятя царёва!
Евфимия молча приникла к его груди. Следом вошёл Шемяка, обнять свою Софью.