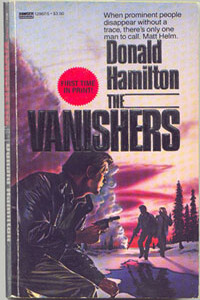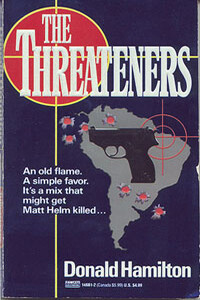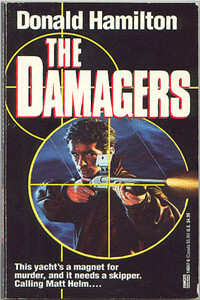Пока занималась с Николаем Федоровичем и Василием Романовичем, отца видела редко. Потом он откуда-то приехал и стал проверять, насколько хорошо я знаю советскую жизнь. Он был доволен моими достижениями и говорил мне, что моими успехами интересуется сам фюрер Адольф Гитлер. Может быть, это была и неправда, но меня это тогда подхлестнуло, и я старалась быть на высоте.
И все же я воспитывалась как особое тепличное растение, изолированное от внешнего мира. Получилось так, что я почти ничего не знала о жизни в самой Германии, кроме одной бредовой мысли: Германия — владычица мира. Иногда отец любил похвастаться мною и демонстрировал меня своим избранным друзьям, приходившим в неописуемый восторг от моих по-детски отчетливых знаний СССР. Все вкладываемое в меня я затвердила как отлично выученное стихотворение и могла без затруднений часами говорить о своих предметах. Тут, несомненно, большую роль сыграла моя блестящая память. Но если бы меня в то время выпускали свободно гулять по улицам Мюнхена, я бы заплуталась и без посторонней помощи не могла бы вернуться в дом отца. Дальше обнесенного оградой огромного парка меня никуда не пускали, можно сказать, держали взаперти.
И вот наступил такой момент, когда отец открыл для меня смысл моей «великой миссии». Он сказал, что меня отправят в Советский Союз. Там я должна буду выдавать себя за советскую девочку, потерявшую родителей и родных. Через некоторое время в Москве меня встретит женщина, которая будет руководить мною, а я обязана буду ей во всем подчиняться.
Хотя мне в то время не было полных четырнадцати лет, но услышанное меня ничуть не испугало. Я уже давно свыклась с тем, что живу в особенном мире. Мои одногодки, которых я иногда наблюдала на улице Мюнхена через зеркальные стекла окон нашего дома, были для меня далеки во всех отношениях. Я только спросила отца, что ожидает тех четырнадцать мальчиков и девочек, которые обучались вместе со мной в пансионе фрау Копф. Отец коротко сказал, что у каждого человека есть свое предназначение.
Тогда же он мне показал альбом с портретами знаменитых женщин-разведчиц, рассказывал о их жизни, стараясь увлечь мое воображение. Я запомнила некоторые имена. Это — известная разведчица Бисмарка Тереза Лахман, немка Лиза Блюме, француженки Бланш Потэн и Марта Рише, англичанка Елизавета Вертгейм и многие другие. Я помню, расхваливая этих женщин, он ни словом не обмолвился о печальном конце, который постиг почти каждую из них.
За месяц до дня моего рождения я с отцом покинула Мюнхен. Я не испытывала грусти, но на сердце у меня было не особенно спокойно. Затем две недели одна, только под охраной немецких солдат, я прожила на каком-то заброшенном хуторе в Литве. Потом появился отец и велел собираться. Мы недолго летели на самолете, еще несколько часов тащились в повозке, запряженной парой лошадей, по какому-то дремучему лесу. Наконец в лесу, в маленькой грязной избушке, я с отцом пробыла еще три дня. Вот там он меня уже не оставлял одну, и все время проверял, хорошо ли я усвоила полагавшееся мне запомнить.
В нем уже просто говорили перенапряженные нервы, так как я отлично знала свое новое имя, знала, что мой отец — колхозник Григорий Пантелеевич Жаворонков, из белорусской деревни Глушахина Слобода, мать из той же деревни, зовут ее Домна Петровна, сестренку Оля, а братишку Петр. Все они погибли при взрыве, находясь в избе, а я во время взрыва была на огороде и поэтому осталась в живых. Все это: и различные мелкие детали, вроде того, кто соседки Жаворонковых справа и слева, сколько в Глушахиной Слободе было до войны изб, где я училась — должна была твердо, без запинки знать.
Как из лесной избушки я переместилась в Глушахину Слободу, мне неизвестно. Помню: отец дал мне что-то выпить, приятное на вкус, но густое и тягучее. Мне сразу же нестерпимо захотелось спать. Когда я пришла в себя, то первое, что увидела, — это лицо совершенно незнакомой мне женщины. Она гладила меня по голове и плакала надо мной. Сначала я ее приняла за ту женщину, о которой говорил отец, но быстро сообразила, что ласкает меня русская женщина.