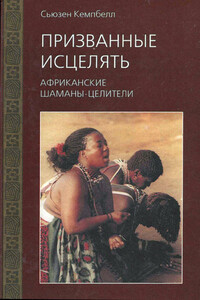Возможно, он станет этим заниматься каждый вечер. Когда из ресторана уйдут гости и огни погасят, он все еще будет что-то говорить в трубку, хотя никто не будет слушать, и отвечать на письма, которые ему никто не отправлял. Туда-сюда будет летать пневмопочта, и на пустых столах загорятся сигнальные лампочки. А он, гонимый демонами коммерции, будет один-одинешенек проводить время за занятиями, на которые обречен.
С недавнего времени я могу называть пишущую машинку своей. У меня еще никогда не было машинки. Я даже представить не мог, что приобрету ее. Разумеется, для большинства людей в этом нет ничего сложного. Они заходят в специальный магазин, осматривают модели и выбирают подходящую. Но мысль о том, чтобы купить машинку, как покупают галстук, приобрести ее, так сказать, публично, меня никогда не посещала; эта мысль казалась мне дерзкой, я бы никогда себе такого не позволил. Только благодаря череде особых обстоятельств, распространяться о которых запрещает элементарное чувство такта, машинка попала в мои руки. Как брошенная хозяином собачка подбежала она ко мне. Не дать ей крова было бы просто не по-человечески.
С самого первого мгновения я полюбил машинку за ее совершенство. Она грациозно сложена, легка, как перышко, и поблескивает в темноте. Рычажки, на которых размещены литеры, обладают стройностью ног фламинго. Когда я, как часто случалось, погружался в созерцание, у меня создавалось впечатление, что в ней ничего нельзя ни добавить ни убавить; она была именно такой, какой и должна быть. Иногда, уже после отхода ко сну, я еще раз вылезал из постели, открывал чехол и ставил машинку на стул рядом. И только после этого засыпал. По ночам меня время от времени посещали кошмары. Мне снилось, что по прибытии в незнакомый город – на юге, это я запомнил – я сдавал машинку в багаж, словно какой-то чемодан. Мне никогда не было свойственно легкомыслие, я скорее педант. Передвижения по городу были сплошной мукой.
Я долго не решался пользоваться машинкой. В своем совершенстве она казалась мне каким-то высшим существом, осквернить которое использованием по назначению просто непозволительно. Тогда, на заре наших отношений, я лишь смущенно ласкал ее прохладные детали. Легкое прикосновение уже делало меня счастливым. Или же я запускал валик и переставлял катушки. Когда мои гости не выражали восхищения машинкой, я их ненавидел.
Постепенно я привык к машинке. Обращение с ней облагородило меня. И если раньше я пытался высказать что-то через написанное, то теперь осознал, что сам процесс печатания достоин внимания. Я печатал колонки цифр и картины из букв на больших листах безупречной белизны, все это не содержало и толики смысла. В благодарность за эти бессмысленные действия, которыми я нежно воздавал должное совершенству машинки, она всегда готова была меня принять. Вскоре она стала значить для меня куда больше женщины или друзей. Мы очертя голову бросались с левого края листа в неизвестность и снова возвращались; каждый клочок бумаги покрывался шифрами. Недели пролетали мимо. А сколько приятных часов проводили мы в сумерках, когда я уже не мог различать клавиши! Тогда я отдавался на волю фантазии, и на свет появлялись великолепные картины из символов. Подобно праздничным флагам, реяли они над светлыми долинами. Гости заглядывали к нам все реже и реже. Они не понимали шрифтовых фигур и только задумчиво качали головами. В конце концов, они перестали приходить вовсе. Я в них не нуждался; мне достаточно было только стучать на машинке. Часто клавиши продолжали набор как будто сами, такой неразрывной стала наша связь. Исписанные листы накапливались в комнате.
Однажды произошло непредвиденное событие: машинка заболела. Вообще-то не сама машинка, да и «заболела» это сильно сказано. Отказала всего лишь одна небольшая клавиша, крошечная клавиша сбоку. Она взметалась ввысь, но застывала в изнеможении, не успев достичь цели. У машинки было много клавиш, и, конечно, от движений одной клавиши можно было бы отказаться. На ней были accent grave, accent circonflexe