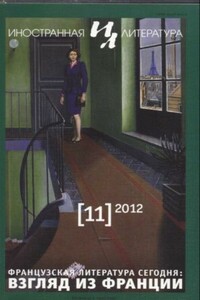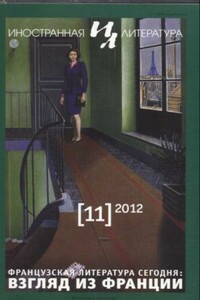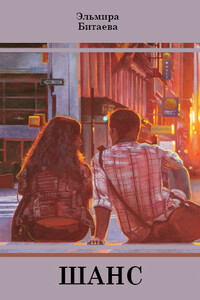За ограждением проспект был усеян всевозможными обломками. Усыпан стеклом, металлом, штукатуркой и фрагментами, среди которых находились и те, которые еще несколько часов назад были органическими и даже принадлежали телам позвоночных, наделенных языком, что придавало пейзажу мрачный вид могильника под открытым небом. Так проспект тянулся две сотни метров. Дальше начиналась какая-то совершенно неразличимая углистая масса. Дальше проспект обрывался. Дороги уже не было. Преодолев первую всклокоченную груду, мы вышли на неописуемый пустынный простор. Начиная с этого места, все руины расплавились и спеклись одна с другой. Они уже не подчинялись никакому градостроительному плану, они отрицали существование улиц, проходов, перекрестков. На них не удавалось наложить изначальный образ нормального города с рядами высоких зданий, с гетто, кишащими жизнью, и палаточными городками, управляемыми благотворительными организациями.
Гордон Кум поздоровался с ополченцами гражданской обороны, и какое-то время они удрученно рассматривали пейзаж, который уже ни на что не походил и в котором жители были все без исключения поражены огнем, расплавлены и погребены. Под утро ополченцы установили заграждение, чтобы удерживать несознательных, идущих на руины, а также принимать тех, кто мог оттуда выбраться. Но с той стороны пока никто к ним не выходил. Ни один уцелевший пока не появлялся.
— Ни звука, — подумал Гордон Кум. — Ни стона, ни крика боли.
Ничего. Давящая тишина.
Утро едва высветлило горизонт.
Затянутое небо предвещало день без солнца.
Изнуренный ночным переходом, Гордон Кум слышал свое дыхание, шумное и прерывистое. Он знал, что такое ужас, всю свою жизнь он провел рядом с горем и смертью, и его собственная политическая ангажированность заключалась в том, чтобы подниматься из этих глубин отчаяния — хотя бы для того, чтобы покарать двух-трех ответственных лиц, однако здесь даже у него перехватило дыхание. Он был в смятении. То, что угадывалось за ближними кучками, казалось невероятно жутким. Он не мог это вообразить, не мог допустить саму мысль об этом, и это вызывало в нем ощущение глубокой подавленности. Было бы лучше завопить или зарыдать, но он не делал ни того ни другого.
Вдали потрясенный воздух возносился в сторону серого неба. Город сгорел до основания, но, по словам ополченцев, пожар длился каких-нибудь десять-пятнадцать секунд, не больше. Пламя и дым мгновенно растворились, словно их поглотила космическая черная дыра. И теперь, спустя много часов, в это раннее слегка туманистое утро уже ничего не дымилось.
Вот на что все они смотрели: на мерзкое бугристое пространство, заменившее город, и на полное отсутствие дыма.
— Не ходите туда, — наконец процедил один из часовых, пятидесятилетний мужчина среднего роста, который во время разговора сутулился, словно желая показать, что выпрямляться в подобных случаях стыдно. — Не ходите туда. Это бесполезно. Там уже нет ничего. Там уже нет никого.
Гордон Кум испустил вздох.
— Там моя жена и мои дети, — сказал он.
— Их там уже нет, — добавил второй часовой. — Вы их не найдете.
— Они как бы ушли, — сказал третий. — Думайте о них, как будто они ушли.
Они продолжали смотреть в сторону города. Прошла не одна секунда, но никто не проронил и слова. От развалин шел странный запах, запах ржавчины, прогорклого сладковатого масла.
— Вы уже ничего не сделаете, — вновь произнес второй часовой. — Не возвращайтесь туда. Ничего не поделаешь.
— Идти туда незачем, — произнес мужчина с карабином. — Вы оттуда не выйдете. Идите обратно и забудьте про все остальное.
Гордон Кум покачал головой в знак своего несогласия.
— Остальное… — выдохнул он.
Он не пошел к руинам, но они поняли, что он не передумал и что, несмотря на их предупреждения, он преодолеет их жалкое заграждение, чтобы сгинуть в пепле.
Один из мужчин почти дружески дотронулся до руки Кума.
— Иди, товарищ, — сказал он. — Пепел тебя сожжет. Это бомбы нового образца. Они разрушают все, а после начинается радиация. Волны. Ты быстро спечешься.
— Как раньше с атомными бомбами, — сказал мужчина с карабином.