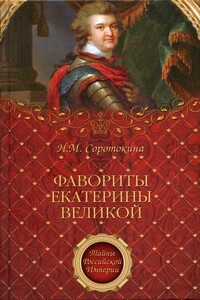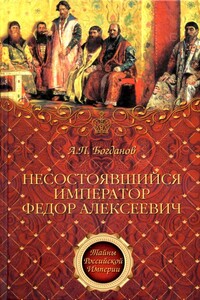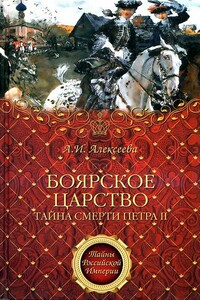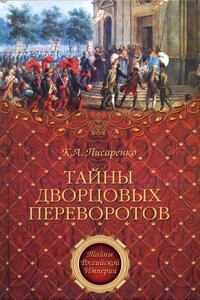И, наконец, знаменитая «копия Ф. Ростопчина», хранившаяся в архиве С. Р. Воронцова, которая в несколько измененном виде (отсутствуют слова, выделенные курсивом) публиковалась в неисчислимом множестве изданий, затрагивающих вопрос о перевороте 1762 г.: «Матушка милосердная Государыня, как мне изъяснить описать, что случилось не поверишь верному своему рабу, — но как пред Богом скажу истинну. Матушка, готов иттить на смерть но сам не знаю как эта беда случилась. Погибли мы когда ты не помилуешь — Матушка его нет на свете — но никто сего не думал и как нам поднять руки на Государя — но Государыня, свершилась беда, мы были пьяны, и он тоже, он заспорил за столом с князь Федором (Барятинским — Л.П.), не успели мы рознять, а его уже и не стало, сами не помним, что делали; но все до единого виноваты — достойны казни, помилуй меня хоть для брата, повинную тебе принес и разыскивать нечего — прости меня или прикажи скорей окончить, свет не мил, прогневили тебя и погубили душу на век.
Списано 11 ноября 1796 года 5 дней после смерти императрицы Екатерины II».
В самом деле, сравнивая орфографию и тон подлинных писем Орлова и «копии», нельзя не увидеть, что последняя выглядит белой вороной. Спокойные, обстоятельные письма Алексея, сообщающие о предсмертном (?!) состоянии узника, вдруг сменяются паническим (едва ли не истерическим) настроем «копии», из которой следует, что хлипкий от рождения и дышащий на ладан Петр оказывается способным не только пьянствовать, но и драться с офицерами, в результате чего якобы и был зверски убит.
В приписке к «копии» о ее происхождении оставлена любопытная заметка: «Кабинет был запечатан графом Самойловым и генерал-адъютантом Ростопчиным. Через три дня по смерти императрицы поручено было великому князю Александру Павловичу и графу Безбородке рассмотреть все бумаги. В первый самый день найдено это письмо графа Алексея Орлова и принесено к Императору Павлу: по прочтении им возвращено Безбородке, и я имел с ¼ часа в руках. Почерк известный мне графа Орлова. Бумага — лист серый и нечистый, а слог означает положение души сего злодея и ясно доказывает, что убийцы опасались гнева Государыни, и сим изобличает клевету, падшую на жизнь и память сей великой царицы. На другой день граф Безбородко сказал мне, что Император Павел потребовал от него вторично письмо графа Орлова. Прочитав в присутствии его, бросил в камин и сам истребил памятник невинности Великой Екатерины, о чем и сам чрезмерно после соболезновал» [28]. Не кажется ли читателю, что Павел только для того и возвращал на один дет письмо Безбородке, чтобы Ростопчин снял с него «копию»? Спрашивается, кому нужна копия, если есть подлинник — единственное вещественное доказательство?
Если на минуту допустить, что все же в первые дни после смерти Екатерины было найдено это письмо (третье) Алексея Орлова, то почему ничего не говорится о двух первых его письмах, явно не похожих на третье, неужели они лежали в разных местах? Почему остались не уничтоженными эти первые два письма, не потому ли, что в эти дни их никто не видел? Но не будем забывать, что между смертью Петра Федоровича (появлением двух подлинных писем А. Орлова) и воцарением Павла Петровича (появлением «копии Ростопчина») пролегают 34 с лишним года. Поэтому оставим ответы на эти вопросы до дня смерти Екатерины II, ибо как будет показано дальше, слово «письмо» применительно к интересующему нас событию появится только в ноябре 1796 г.
В работе О. Иванова приводятся свидетельства, позволяющие в совокупности с письмами А. Орлова составить хотя бы примитивную «историю болезни» Петра Федоровича. Принимая во внимание незавидное физическое состояние его родителей (отец отличался хилостью, а мать умерла от чахотки через два месяца после рождения Петра), учитывая склонность цесаревича, успевшего в юношестве переболеть оспой, к пьянству с десятилетнего возраста, а несколько позже к курению и распутству, можно не удивляться слабости его организма.
К тому же хронический геморрой в последние годы приносил государю «такие страдания, что крик и стенания его можно было слышать даже во дворе» (А. Т. Болотов). 29 июня после возвращения из Кронштадта уже отрекшемуся Петру несколько раз становилось дурно и он посылал за священником (Я. Штелин).