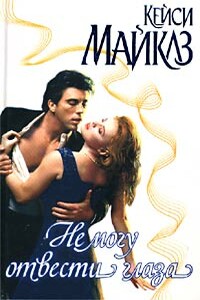Минут через пятнадцать она обнаружила его в саду, где он молча созерцал развалины теплицы. Вид его безупречно пошитого костюма и холодного, равнодушного лица лишь усилили ее гнев.
— Ах вы, несчастный щеголь! — пустилась она с места в карьер.
Она могла бы сказать больше, если бы надеялась, что он прислушается к ней. Она вообще предпочла бы не говорить, а молча запустить ему в спину огрызком яблока, чтобы заставить обратить на себя внимание.
Люсьен не спеша обернулся, опираясь на элегантную тросточку, от одного вида которой Кэт стало тошно — все модники считали необходимым иметь такую. Она подумала, что, если бы в моду вошли розовые носочки и перья в носу, он бы непременно тоже обзавелся такими.
— Мисс Харвей, — томно произнес он, сопровождая свои слова откровенно издевательским поклоном. — Мы снова встретились. Как мило. Кстати, вы заметили, что у вас из ушей валит дым? Вы назвали меня щеголем. Должен ли я понять ваши слова так, что вам не нравится мой дорожный костюм? У моего портного разорвется сердце, если он такое услышит. Или вы предпочли бы, чтобы я облачился во власяницу? Но я уже давно успел проделать и самобичевание, и посыпание главы пеплом!
Он намерен играть с ней в словесные игры. Ну, ее на этом не возьмешь! Она швырнула через плечо огрызок яблока и пошла в атаку:
— Как вы могли вести себя так жестоко?
Он извлек из жилетного кармана свою финифтяную табакерку, небрежно отщелкнул крышку — чем здорово разозлил ее — и позволил себе к тому же предложить понюшку ей, прежде чем воспользоваться табакеркой самому. О, если бы в этом мире было правосудие, он обчихал бы всю свою вычурную манишку. Кэт чувствовала, что с каждой минутой ненавидит его все сильнее.
— Жестоко, дорогая? Неужели вы имеете в виду мою встречу с Эдмундом? О, вы и вправду так думаете? Я никогда не бываю жестоким. По чести, я был само божественное милосердие. И я уверен, что заслужил поощрение, а не порицание. И ваше хорошенькое розовое ушко, прижатое к двери, должно было услышать, что я был в высшей степени тактичен, проведя четверть часа в милой беседе о том о сем, рассказав ему пару свежих анекдотов из жизни общества, и поспешил вовремя удалиться, подчиняясь вашему приказу не утомлять пациента.
Она хотела бы исхлестать — нет, исцарапать это смазливое ухмыляющееся лицо.
— Чушь! Ни одного слова сочувствия, утешения! Ни проблеска любви и прощения! Вы несли сплошную собачью чушь! У вас что, нет глаз? Вы не способны видеть ничего, кроме ваших собственных несчастий? Ведь человек умирает, он в отчаянии!
Он поколебался на миг, придав ей надежду, что она пробилась к его чувствам, но когда раздался ответ, надежда испарилась:
— Этот человек, дорогая, не более чем овощ — с головой, способной говорить не более, чем кочан капусты. Его тело такое же иссохшее и скрюченное, как прошлогодний стручок; половина его физиономии расползлась, словно гнилой салатный лист, который брезгливо отодвинут на край обеденной тарелки. И если бы мне приспичило вдруг делиться сердечными тайнами, искать или давать кому-то прощение — я ни в коем случае не стал бы заниматься этим возле кровати, где расположился этот ботанический сад.
Он закинул тросточку себе на плечи, улыбнулся, наклонился и, заглядывая ей в глаза, добавил совсем иным, почти добрым тоном:
— Вот так, мисс Харвей. Я вас шокировал? Вы хотите залепить мне пощечину? А вы повернитесь и убегите. Это было бы логично. Или вы собираетесь разразиться слезами? Эдмунд плачет, вы знаете? Он плачет и кривляется. Похоже, это его единственный способ развлекать общество. И он довольно-таки отвратителен с виду, верно?
— Боже мой, что же они с вами сделали! — воскликнула Кэт, прежде чем успела прикусить себе язык — сердце ее обливалось кровью при виде его мучений. Ей не надо было делать над собой усилия, чтобы сочувствовать этому человеку.
Люсьен выпрямился, его улыбка оставалась неизменной, но глаза по-прежнему не улыбались, были темные и непроницаемые.
— Вы до некоторой степени падаете в моих глазах. Я никак не думал, что вы питаете страсть к мелодраме, мисс Харвей.