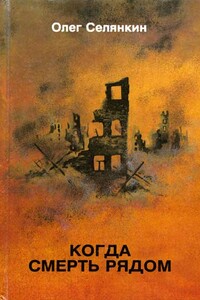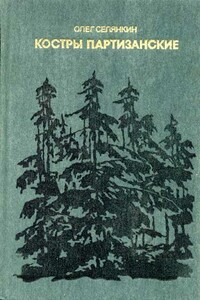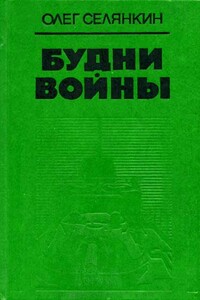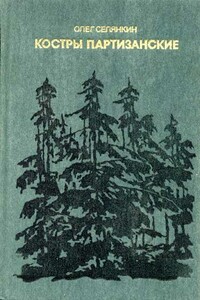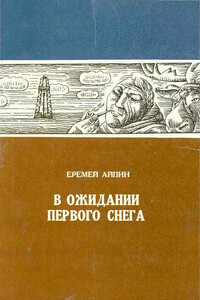Но фашисты не торопились. Над батальоном повисли самолеты. Один из них вдруг перевернулся через крыло, показал свою зеленую спину и, разрывая воздух воем сирен, понесся к земле. Норкин не видел, как отделились бомбы, не заметил, вышел ли самолет из пике: земля вздыбилась перед его глазами, полезла к солнцу и закрыла его. А когда он очнулся, то самолетов уже не было, мины рвались опять на дороге за окопами. И первое, что почувствовал Норкин — солоноватый привкус крови. Она двумя тонкими струйками стекала из разбитого носа. Немного кружилась голова, а уши словно заткнули ватой. У входа в пулеметное гнездо лежал матрос. Он согнулся калачиком, сжался, словно пригрело его солнышко, вот и уснул матрос. Но вместо головы у него было кровавое месиво. Норкин почувствовал, что не может больше находиться здесь, что еще немного — и его стошнит от этого запаха, и, стараясь не смотреть на труп, вылез из пулеметного гнезда.
Короткая передышка, и самолеты появились вновь. Теперь они проносились над окопами на бреющем полете. Непрерывно строчили их пулеметы, тарахтели пушки, но это было уже не так страшно: по ним тоже стреляли из пулеметов, снайперских винтовок, автоматов, да и всегда можно прижаться к той стенке, со стороны которой заходит самолет, и укрыться. Но вдруг земля задрожала мелко-мелко. Стало тревожно.
— Танки! Танки! — пронесся над окопами чей-то испуганный голос.
Защелкали затворы автоматов. Это матросы приготовились встречать автоматчиков. А с танками… Танками займутся истребители…
Козьянский выглянул из ячейки. От лесочка шли три танка. Три бронированных коробки на полной скорости неслись на моряков. У Козьянского похолодели пальцы: не было у моряков защиты от танков. Правда, не было ее и от самолетов, но те все-таки кружились в воздухе, а яти своими блестящими гусеницами рвали землю, в которой сидели матросы, подминали ее под себя. Они шли напрямик! Вот на пути одного из них выросла кучка трупов немецких солдат. Он не свернул, не стал обходить ее, и только бесформенные темные пятна остались на поле.
«Пушки! Пушки где?!» — подумал Козьянский и прижался горячей щекой к сырой стенке окопа.
А моторы ревут рядом, отрывисто, громко бьют пушки танков, заливаются, захлебываются их пулеметы… Никогда не думал Козьянский, что так страшны танки, что может быть таким стремительным движение этих казалось бы неуклюжих, угловатых машин. А умирать так не хотелось, что злоба сдавила горло. И он дрожащими пальцами рванул противогазную сумку, расстегнул ее и высыпал на землю гранаты. Но приготовить связку не успел: танк, качнувшись на бруствере, словно подпрыгнув на трамплине, обрушился на ячейку.
«Конец», — мелькнула мысль, и тотчас пахнуло жаром, шум оглушил, прижал к земле.
Еще секунда — и снова блеснуло солнце: танк, свалив в окоп бруствер, пронесся дальше.
«Не задел!» — обрадовался Козьянский и страх пропал, пальцы стали гибкими, послушными. Теперь гранаты плотно ложились одна к другой, шнур больше не рвался и связка получилась на славу. Козьянский высунулся из окопа и крикнул:
— Сюда айда! Сюда!
Но танки уже уходили обратно. Они разведали огневые точки коряков, проутюжили их окопы и теперь возвращались к себе, чтобы вести за собой пехоту. Однако ко вторичному появлению танков моряки подготовились, и едва головной дошел до первой линии ячеек истребителей, как из ямы высунулся матрос, взмахнул рукой, и, кувыркаясь в воздухе, полетела серебристая бутылка. Ее удара не было слышно, но на лобовой броне танка заплясало пламя. Танк остановился. Из люка орудийной башин показался танкист, уперся руками в кромку люка, хотел выскочить, и обмяк, словно переломился пополам. Пламя лизало его вытянутые руки и черный дым клубился вокруг головы.
Около других танков тоже лопались бутылки, рвались связки гранат, снаряды гаубиц. Танкисты не выдержали. Машины развернулись назад и понеслись к лесу, обгоняя свою пехоту. Переломный момент наступил, и зеленая ракета проплыла над окопами.
— Рота-а-а! — крикнул Норкин, выскакивая на бруствер окопа.
Козьянский боязливо посмотрел по сторонам. И везде, куда бы он ни взглянул, вставали матросы и бежали вперед, разинув рты. Все кричали, и над полем металось лишь одно протяжное, негодующее: