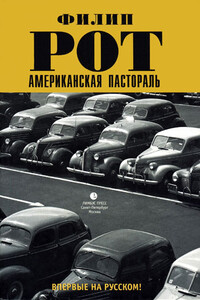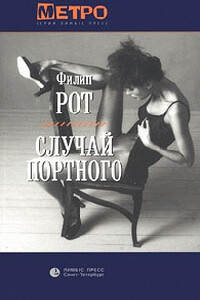В понедельник она сказала мистеру Валерио, что у нее не хватает времени для занятий — вечером работа в Баре Дэйла, а днем репетиции. „Но ведь мы в полпятого заканчиваем…“ — „Все равно“, — ответила она, глядя в сторону. „В прошлом году это у вас как-то получалось, Люси. Вы закончили год с отличием“. — „Да, но… Мне очень жаль, мистер Валерио“. — „Люси, — начал он, — вы и Бобби Уитти моя единственная опора. Прямо не знаю, что и сказать… Как раз приближаются самые важные игры“. — „Я понимаю, мистер Валерио, но все же так будет лучше. Я все обдумала. Поступление в колледж тоже приближается, вы ведь знаете. Так что мне надо изо всех сил стараться получить стипендию. И еще мне надо зарабатывать в Молочном Баре. Если бы я могла обойтись, тогда конечно… Но я никак не могу“. — „Ну, — сказал он, опуская свои большие черные глаза, — не представляю, что теперь будет в группе ударных. Кому держать ритм? Боюсь даже подумать об этом“. — „Мне кажется, Бобби справится, мистер Валерио“, — неуверенно проговорила она. „Бобби, — вздохнул он. — Ну да ладно, я ведь тоже не Фриц Райнер. Видать, в школьном оркестре иначе и быть не может“. — „Мне, правда, очень жаль, мистер Валерио“. — „Да, не так уж часто на моем пути встречается мальчик или девочка, серьезно относящиеся к барабану. Даже самые лучшие просто колошматят почем зря. Да… Вы были моей надеждой, Люси“. — „Спасибо, мистер Валерио. Это для меня много значит. Очень много. Правда“. Затем она поставила на его стол коробку, в которую сложила форму. Шляпу с серебряными галунами и золотым плюмажем она держала в руке. „Мне, правда, очень жаль, мистер Валерио“. Он взял шляпу и положил ее рядом с коробкой. „А барабаны там, — сказала она, чувствуя мгновенную слабость, — в оркестрантской“.
Мистер Валерио сидел, пощелкивая пальцем по перу на ее шляпе. Ох, какой он прекрасный человек! Он был холост, слегка хромал, приехал к ним прямо по окончании музыкальной школы в Индианаполисе — и вся его жизнь заключалась в оркестре. А какое у него терпение, какая преданность делу… Смеялся он или печалился, но все равно никогда не злился, не придирался по мелочам, и вот теперь она оставляет его, оставляет по глупой, пустой, самой эгоистической причине… „До свидания, мистер Валерио. Я обязательно буду заходить, узнавать, как У вас идут дела. Не беспокойтесь!“
Вдруг он глубоко вздохнул и поднялся. Теперь он как будто собрался с силами. Обхватил ее руку обеими руками и встряхнул, стараясь казаться веселым: „Ну, ни пуха ни пера, моя надежда“.
Слезы покатились у нее по щекам, ей хотелось его поцеловать! Ну зачем, зачем она уходит? Оркестр был ее вторым домом. Ее первым домом.
— И все же я надеюсь, — говорил мистер Валерио, — что мы выстоим. — Он похлопал ее по плечу. — Берегите себя, Люси.
— А вы себя, мистер Валерио!
Маленькая девочка с косичками раскачивалась в качалке у них на веранде, когда Люси взбежала по ступенькам. „Здрасьте!“ — сказала девочка. А мальчишка, сидевший за пианино, едва она хлопнула дверью, остановился на середине такта и посмотрел, как она взлетает вверх по лестнице через две ступеньки.
Стоило ей повернуть ключ в двери спальни, как пианино снова заиграло. Она тотчас же вскочила на стул и стала осматривать свои ноги в стоявшем на туалете зеркале. Они были худые и тонкие, да это и естественно: ведь она такая низенькая и костлявая. Но что тут поделаешь? Вот уже два года, как в ней были все те же пять футов полтора дюйма, а что касается веса, ну что ж, она не любила есть — в чужом месте, во всяком случае. А к тому же, стоит ей пополнеть, ноги сразу станут как сардельки — у всех коротышек так.
Она слезла со стула и стала рассматривать свое лицо. Какая топорная, неинтересная физиономия. А про такие носы, как у нее, обычно говорят — одно слово „мопс“! Ева Петерсон хотела, чтоб ее так и звали в оркестре, но Люси дала ей понять, что с ее бельмом лучше это дело прекратить, и та сразу послушалась. В общем-то вздернутый нос не так уж и плох, но только вот кончик у него чересчур толстый. Да и челюсть великовата, во всяком случае для девушки. Волосы какие-то пегие, желтовато-беловатые, и никакой челкой, конечно, не исправить такую топорную, почти квадратную форму лица — это она прекрасно понимала. Но если зачесать волосы наверх — вот как сейчас, — виден костлявый лоб. Глаза, правда, у нее ничего или были бы ничего на другом лице. И что самое плохое — глаза словно и не ее. В комнате оркестра она иногда глядела на себя в зеркало и прямо ужасалась сходству с отцом — в шляпе она была на него похожа как две капли воды, особенно эти голубые кругляки под крутым бледным лбом.