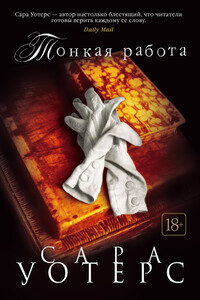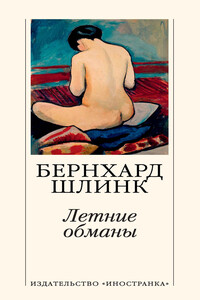Мы вернулись домой далеко за полночь. Уезжая утром, Адельгейда не сообразила, что надо попросить ключ от входной двери пансиона, ночного портье там не было, так что она согласилась на мое предложение переночевать в гостевой комнате моего дома. Она проголодалась, я разогрел бефстроганов, приготовил салат, мы поели, ни о чем серьезном не разговаривали.
– Большое спасибо за все. – Мы встали, она подошла, положила руки мне на плечи и прижалась щекой к моей груди. Я обнял ее. – Завтра я выезжаю в шесть часов. Ночь совсем короткая. Ты придешь ко мне? – Она подняла голову и посмотрела мне в глаза, а так как я не сразу ответил, снова опустила голову.
– Я… Если нам будет хорошо, я не перенесу того, что ты завтра уедешь. А если не будет хорошо, то лучше пусть ничего не будет.
– Понимаю. – Она тихо засмеялась. – Может быть, я приеду еще и тогда останусь на подольше. Или ты приедешь в Берлин. – Она мягко высвободилась, сказала «доброго сна» и ушла в свою комнату.
Весь март известий из Тромсё не было. Я собрался было позвонить и узнать, как дела, но раздумал. Если обещанные деньги не заставили антиквара заняться поисками, то мой звонок не заставит и подавно.
С Адельгейдой мы переписывались и перезванивались. Она прислала мне наброски своей статьи, я ей – эскиз нового дизайна своего сада. Она прислала мне фотографии Айка и своей матери, а также свои, на которых она в детстве и в юности. Мы делились впечатлениями о книгах, музыке и кинофильмах, она писала, что любит отдыхать на юге, я писал, что меня тянет на север, она писала, что хочет завести собаку, я – что мне милее кошки.
И на детских фотоснимках, и на более поздних Адельгейда кого-то напоминала мне. Кого? Одну из моих сестер? Эмилию? Мою жену, которую я не знал в детстве и в юности, но видел на фотографиях тех лет? Кого-то из детей, с кем я играл, или девушек, с кем танцевал и кем увлекался? В подвале дома у меня стояла коробка с фотографиями, я решил вытащить ее и хорошенько посмотреть все, что там есть. Но не успел – не до того стало.
В середине апреля пришло письмо из Тромсё. Антиквар нашел тридцать одно письмо и одну открытку, адресованные Герберту Шрёдеру, теперь он ждал от меня банковский перевод: за вычетом уже уплаченного надо перечислить на его счет в одном лондонском банке семь тысяч шестьсот евро. И тогда он отправит мне письма, если угодно, с курьером, но за курьера надо доплатить еще сто двадцать евро.
Сумма получилась куда больше, чем та, какую я мог бы просто выложить разом. Я стал соображать, где и как раздобыть денег, и тут вспомнил о сберкнижке Ольги. Пошел в банк – оказалось, что за все эти годы на двенадцать тысяч марок наросли проценты и я могу снять со счета шестнадцать с лишним тысяч евро. Больше чем достаточно.
Прошло еще две недели, и наконец в среду утром курьер вручил мне большой пакет. В нем оказался еще один пакет и письмо от антиквара, без даты, без обращения, без приветствия, хорошо хоть с подписью.
Сожалею, что заставил Вас ждать. Я не только был очень занят. В первое время, разгребая эту гору писем, я то и дело останавливался, чтобы прочитать хотя бы начало того или иного письма. А потом чтение чужих писем сделалось для меня тем же, что вино для пьяницы. Мне попалось письмо с историей, случившейся из-за ревности, еще одно, в котором рассказывалось о раздоре братьев, это было как наваждение, хотелось читать еще и еще. Мне попалось письмо времен оккупации, в котором разыгрывалась настоящая драма подлости и предательства, в другом письме, написанном уже после освобождения страны, его автор-коллаборационист сообщает, что намерен покончить с жизнью. Надо Вам сказать, я по образованию историк. Вот я и подумал, наконец-то разберусь с прошлым, узнаю, каким оно действительно было. Так нет же. Прочитав тридцать-сорок писем, я сам себе стал противен: нельзя так алчно копаться в чужой жизни. История – это не прошлое, каким оно действительно было. Она – форма и облик, какой мы придаем прошлому. Надеюсь, Вам, в отличие от меня, чтение Ваших писем принесет больше радости.