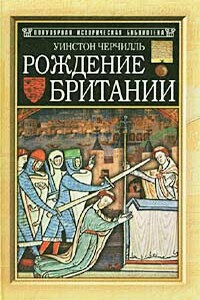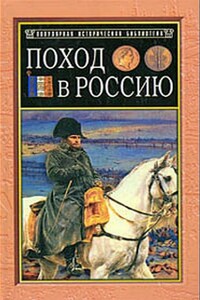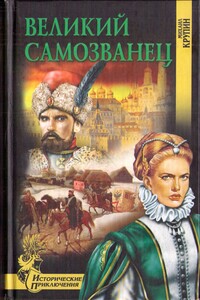В зимние медлительные вечера Отрепьев брался было подтянуть по учёбе друга. Повиснув на ступеньках лестницы между полатями и печью, он говорил наизусть прислонённый враспашку к печной, белой в точках, трубе азбуковник. После, взяв часослов, переводил другу древнеславянский, читал про иудейских, израильских и московлянских царей...
Но Безобразов тяжело скучал и раздражался, не слушая. Он только понимал, что внаглую читающий Отрепьев как-то проникает в каменную суть этой рябой, как оттиснутой оспой, чтебной поверхности, — это и выводило из ума Безобразова. Если Отрепьев сообщал о князьях или султанах, все указы и выводы древних владык он оглашал так благозвучно, и хладно, и страстно, точно когда-то промаячил в самой гуще их. Слово же святых Отрепьев возвещал и ласково, и кротко, будто сам проводил по земле и воде до небес Христа.
Безобразов, слушая, покрывался гусиной кожей. Он вот не умел так задушевно лепиться, никогда и не хотел. Он знал, что каждый должен занять одно своё место. А занимать гонор у жития больших, великих, в долг — постыдно, глупо, особенно если обходишь за две улицы Малую Басманную, где правит толстый пасмурный мальчишка с перевязанным тяжёлым кулаком.
Когда нельзя было уже терпеть, Безобразов разом обрывал товарища, говорил, что всему научился, и они спешивались с недвижимой обжигающей печи в пушистую зиму, гулять.
Вообще Безобразову нравилось чувствовать себя по жизни (не по школярской ленивой скамье) много умнее и крепче раскидисто беспечного Отрепьева.
— Принеси с ваших кустов терновника и яблок с ваших яблоней, — говорил он в августе Отрепьеву, — а то, если в наш огород лезть — заругают...
И Отрепьев приносил ягод, и груш, и яблок, и ещё чего-нибудь, не задумываясь о причинах строгого порядка в доме Безобразовых.
Безобразов одно время терзался и даже спрашивал приятеля, не обижается ли он на что. Но вскоре убедился, что тот на этот счёт не чует и не учитывает ничего. В детском дружестве Отрепьева не было ни любознательной корысти, ни прицела вдаль... Взрослеющим вытягивающимся рассудком, как рукой, проверив со всех сторон эту его пустоту и ничего не обнаружив, Безобразов успокоился.
Как-то Отрепьев вынес со стола из дома пресладкий широкий пирог: с ревенём и творогом, опять на сдобе мак, внутри, в твороге, — мёд и коринфский изюм. Друзья вдвоём смогли поглотить пирог только до половины, вторую спрятали на голубятне в глубине двора. Ночью пошёл дождь, Безобразов долго мученически ворочался на своей постели: он различал в тёмной, тугой глубине своих сжимаемых в смутной борьбе с дождём век, как потоки безвкусной небесной воды избивают погибающий пирог сквозь худую кровлю голубятни.
Уже в рассветной мороси на голубятню влез мокрый, проголодавшийся мальчишка. Чистая струйка точилась откуда-то сверху и, приблизясь, стукала в вершке от вытянутой руки Ванюши Безобразова, когда под пальцами неслышно, но внятно и приветно хрустнула подсохшая за ночь корочка полпирога.
На другой день Безобразов подошёл к другу с некоторым опасением. Но Отрепьев, скинув кожаные поршни, то вырастая, то уходя всё ниже и ниже, увлечённо изучал простор разлившихся слепящих луж. Кроме шумных снов истекшей ночи, вчерашнего он уж ничего больше не помнил. Хоть Безобразов так и знал, что он забудет, ещё когда завтракал в рассветной сырой тьме, но тут... Стало вдруг так вдвоём легко и непонятно (досадно, что ли, на растяпу?), что... Безобразов, хохоча, пересказал садящемуся от веселья в лужу другу всё.
В один из зимних дней отец Юшки Отрепьева вернулся с караульной службы раньше времени. Он почти что не шёл сам — два стрельца волочили его, закинув каждый по одной его руке себе за шею.
Безобразов и Юшка Отрепьев сорвались с крыльца и в ужасе смотрели, как на незнакомый деисус[24] в свежерасписанной, ещё не освящённой церкви... Юшка кинулся за матерью в дом, а Безобразов, уже скрытый балясинами своего крыльца, между них смотрел... Клюквенно-красный стрелецкий кафтан Юшкиного отца, густея, переходил на животе и груди в темно-маковый, точно инок-художник, сделав ярчайший мазок, не успел развести-разместить краску как следует.