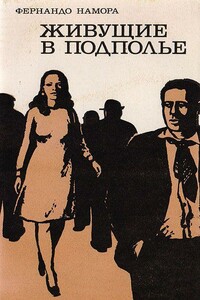— Фамильными гербами твоей семьи, к примеру?
Луис Мануэл закрыл глаза. Он напоминал христианского мученика, смиренно глотающего оскорбление. Потом, забыв о грубом замечании Зе Марии, продолжал:
— Если ты поступишь на работу, как же тебе удастся выкроить время для занятий, для чтения книг, для создания умственного потенциала, который подготовит тебя к будущему? Чего ты добиваешься, Зе Мария? Материальной обеспеченности? Но какой ценой?! Спокойствие, спокойствие — вот девиз буржуазного эгоизма. Так убаюкивают сознание. Подсовывают под нос гнилой плод и… Ты меня слушаешь? — Внезапно Луис Мануэл почувствовал себя свободным. Он подгонял факты к идеям, делая обобщения. Уйдя от конкретной проблемы, он уже мог абстрактно решать их. Воодушевленный, уверенный в себе, он продолжал:
— Наши коллеги по университету ошибочно видят цель своей юности в беспорядочной, богемной жизни, в устаревшем ритуале средневековых традиций, в формализме привычного уклада, который представляет недурное начало для ожидающей их потом жизни укрощенных животных. И ты, так же как они, бежишь от ответственности. Они уклоняются от нее, не называя причин. Они просто не могут их выдумать. В любом случае твое отречение, Зе Мария, делает тебе еще меньше чести, ведь ты-то знаешь, чего должен требовать от себя!
— Я пришел к тебе просить работу, а не выслушивать проповеди.
Но даже эта обидная реплика не сломила энтузиазма Луиса Мануэла.
— Работу! — возмущенно повторил он. — Разве до сих пор ты не сводил концы с концами? Разве ты не стремился возместить жертвы твоих родных учением в университете, ведь это награда за все твои усилия! Мужайся, друг! Будь твердым! Держись до конца!
Зе Мария направлялся к двери. Луис Мануэл понял, что теряет собеседника, что остается один, и все его воодушевление иссякло. Снова им овладели скука, усталость, лень. Обняв друга за плечи, он сказал ему слабым и нерешительным голосом:
— Еще настанут для всех нас лучшие времена.
Когда Зе Мария, не прощаясь, вышел в сад, Луис Мануэл вместо облегчения почувствовал странную горечь, точно у него по жилам потекла желчь. Он был недоволен, обескуражен. И чтобы избавиться от непонятной нервозности, закрыл дверь, окно и погрузился в чтение книги.
Наконец Силвио нашел в одном из кафе, часто посещаемом в последнее время студентами, неизвестного, весь вид которого говорил о том, что он мог разделить мечты Силвио. Это был стройный белокурый человек с бровями правильной формы; в тонких руках он держал раскрытую книгу. Рядом с ним лежали стопки бумаги. Медленно, с наслаждением пил он кофе, читал, писал.
Его взгляд, полный безмятежной меланхолии, перемещался с книги на зал, из зала на улицу, но это был взгляд, как бы скользивший по миру презренному — какой-то занавес безразличия отделял его от других людей и предметов.
Силвио, с тех пор как обнаружил этого человека, стал ежедневно бывать здесь, с восхищением наблюдая за ним, за его манерой смотреть на окружающее. Он не мог ошибиться: это был артист. Теперь ему не хватало только смелости познакомиться с ним.
Иногда приходили другие юноши-студенты, которые бесцеремонно усаживались за его столик. Они беседовали, что-то обсуждали. Однако он, хотя и терпел их присутствие, оставался безразличным к разговорам этих непрошеных гостей. На нем, только на нем сосредоточил Силвио свое внимание. И вот однажды ему показалось, что тот наконец заметил его. Началось все с обмена взглядами, который у незнакомца неожиданно оказался теплым и приветливым; в последующие дни этот обмен взглядами, можно сказать, был уже преднамеренным, желанным, и тогда Силвио осмелился даже улыбнуться ему. И тот тоже улыбнулся! Он признал его! Увидел в нем с той поры поэта, жаждущего быть понятым и ищущего поддержки. Теперь ему уже было легче найти столик поближе к ним, откуда он мог слышать их разговор.
Они беседовали о таинственных вещах — о кубизме в живописи, о реализме и субъективизме, о романах Арагона. Говорили о вещах странных и сложных на языке, который он, наверное, никогда не сможет понять.
Силвио был так потрясен, что его существование как писаря, как сына господина Мендосы казалось ему чудовищной фикцией; его жизнь, его настоящая жизнь была здесь, в этом кафе, в двух шагах от тех, которые в культуре нашли ответ на волновавшие его мысли. Каждый вечер, покинув свой отдел, он спешил в кафе, и его глаза не замечали ничего из того, что могло соблазнить его по дороге; господин Мендоса начал подозревать, что это объясняется неким любовным увлечением. Лучше это! Пусть их будет больше. Пусть он станет мужчиной. И, довольный, отпускал сына, не досаждая ему излишними вопросами.