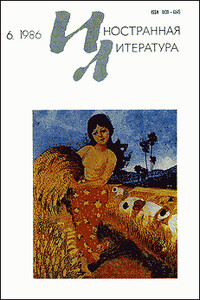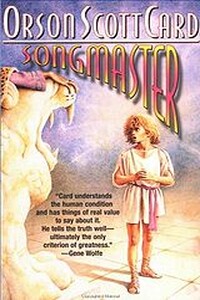Приговор мог бы казаться легким. Никого не казнили и не сослали на каторгу, напротив, по окончании суда все вышли из зала свободными людьми, навстречу ожидающим их родным. Пожизненный запрет занимать государственную должность, высылка из столицы в двадцать четыре часа, и денежный штраф — но для Штриха это значило исключение из Корпуса с крахом всех надежд. Ему некуда было ехать, он никого не знал вне столичного города, и не имел профессии, могущей дать кусок хлеба. Мать и отец причитали, собирая чемодан:
— Мы так мечтали о твоем будущем чине! Все наши сбережения ради твоего образования! Что теперь приличные люди скажут? Где наш покой в старости? О нас ты подумал?
Бедные родители — отдали все, что могли собрать, чтобы заплатить назначенный штраф. Но больше ничем помочь они не могли — и Леон с чемоданом стоял на вокзальной площади, не зная, что с ним будет завтра. И тут к нему подошел один из товарищей по нес-частью — тот, кого позже будут называть Первым, и предложил идти вместе с ним; находясь в безвыходном положении, Штрих согласился — даже не представляя, на что. Их было семеро, из тридцати трех подвергшихся приговору — решивших не смириться и продолжать борьбу; остальные двадцать шесть после полученного жестокого урока предпочли стать законопослушными гражданами в провинции, на частной службе.
Так началась их Организация. План Первого был ясен и прост — чтобы свергнуть деспотизм, надо поднять и повести за собой народ, чтобы народ восстал, его надо разбудить. Значит, начать надо с издания нелегальной газеты, несущей правду всем, согбенным под ярмом. И лучшим местом для этого был Зурбаган — второй после столицы город и порт, где так легко затеряться в пестрой толпе разноязыкого народа, и откуда везут товары по самым отдаленным углам огромной страны. Здесь же, в поезде, стали придумывать название — "Пламя", "Искра", "Красный Петух", "Рабочая правда", "Труд", "Вперед", "Союз борьбы", "Освобождение пролетариата"; за эти годы и газета, и организация успели сменить несколько из этих имен. Однако, хотя Первый был пламенной душой, горячим сердцем и железной волей организации — его короткие, рубленные фразы, похожие на военный приказ, мало подходили для бумаги. Так Штрих стал Вторым — неожиданно обнаружив у себя талант, память и усидчивость; когда начали приходить письма от агентов, как часто приходилось редактировать историю, коряво изложенную малограмотным пролетарием, оставляя от нее лишь голые факты в новой, весьма отличной форме! А практической работой ведал товарищ Третий, откуда-то взявшийся среди них уже в Зурбагане. Сперва всех задевало его равнодушие к самым яростным идейным спорам — но мало интересуясь высшими материями, Третий оказался незаменим в организации дела, добывая бумагу, транспорт, деньги, фальшивые документы, устраивая типографии и явочные квартиры, отдавая непосредственные приказы агентам, связным, осведомителям, распространителям газеты; он был мотором и разумом Организации, так же как Первый — ее сердцем и душой.
Поначалу Зурбаган не понравился Штриху — показавшись пыльным, шумным, ветреным и каким-то беспорядочным. В первые дни они бедствовали — жили коммуной, снимая две комнаты в домике на окраине, возле Угольной Гавани; это было опаснее при провале — но, как говорил Первый, давало урок социалистического общежития, необходимый им самим. Брались за любую работу, добывая на жизнь — бывало даже, таскали мешки и разгружали вагоны. И — помнили о цели. Леон работал тогда, как все — яростно и рьяно. И был счастлив — чувствуя себя в жизни на своем месте. Первый номер появился уже в январе — через три месяца после их приезда. Теперь их газета была большим и крепким делом — с многочисленной сетью агентов, с подпольными и заграничными типографиями, с налаженным транспортом. Исполняя поручения, люди Организации разъезжали по всей стране — а Штрих безвылазно сидел в Зурбагане: его берегли. И сам Штрих полюбил этот город, залитый солнцем — где он, с помощью товарищей, сделал себя сам. И еще — где он встретил Ее, Зеллу. К которой он ехал сейчас, забыв про строжайший запрет.