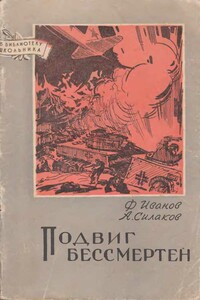— Знаете, лучше я вас все-таки провожу до дома, а то недавно одна девушка везла мою рукопись и в метро потеряла сознание.
Я хотела возразить, что со мной подобных вещей вроде бы не случается, а потом даже обрадовалась, — значит по дороге еще поговорим. Когда он уже открывал входную дверь, чей-то женский голос из соседней комнаты прокричал: «Саня, не забудь на обратном пути купить масла». Я просто остолбенела, тут же представив: выходит из дома Шопен или Толстой, а ему вдогонку кричат: купи масла.
Он только что вернулся из поездки по Брянским местам (готовил материал для «Августа 14-го»), но рассказывал больше о красотах природы, да еще весной, когда все в черемухе: «У нас в машине всю дорогу благоухало». В метро — грохот и лязг колес защищал от любопытных ушей — заговорил о воспоминаниях Н.Я.Мандельштам и о встрече с ней: «Пишет интереснее. чем говорит, верно?». Ругал «Десять дней, которые потрясли мир» на Таганке, куда его зазвали, ожидая, очевидно, восторгов, «не мог же я им сказать, что все было не так» (еще бы, когда уже подбирались к его архивам!). Когда дожидались автобуса у Курского, упомянул о посещении Ахматовой. «Кто ваш любимый поэт двадцатого века?» — спросила я. «Выше всех для меня Блок». «А Пастернак на каком месте? — не удержалась я. «Каждый поэт — свой особый, большой мир», — ответил он уклончиво.
Автобус долго не подходил, я стала уговаривать его не терять зря времени, — уж две-то остановки я как-нибудь благополучно (без обмороков) доберусь. Мы простились, я посмотрела ему вслед: он медленно шел к подземному переходу, задумчивый, понурив голову в своей теперь уже многим известной по рассказам и фильмам штормовке защитного цвета с черным учительским портфелем.
В 96-м году Солженицын передал мне через знакомых (мужа уже не было в живых) «Бодался теленок с дубом»: «Анастасии Поливановой в память бесценной помощи Вашей и Михаила Константиновича в те тяжкие годы». В книге среди прочих «невидимок» (тайных помощников) есть фотография мужа и несколько теплых слов о нем, с некоторыми неточностями, — гебист- ских подозрений Миша не избежал и его дважды вызывали на Лубянку.
С Пастернаком, как уже говорилось, мама встретилась в издательстве «Узел» в начале двадцатых, но настоящее знакомство состоялось значительно позже. Перед войной мама написала ему письмо, он откликнулся телефонным звонком, по возвращении же из эвакуации стал бывать у нас, а еще чаще звонил по телефону и часами разговаривал с мамой (дед ворчливо шутил: Марина, тебя Пастернак, опять телефон будет занят два часа). Так завязалась многолетняя дружба. Отношения стали особенно интенсивными, когда мама взялась перепечатывать для него Роман (долгие годы так назывался и самим автором и всеми «Доктор Живаго»), а также бесчисленное количество экземпляров стихов из него по мере их появления. Стихи мама сама сброшюровывала и переплетала, — эти светло-зеленые и голубые тетрадки расходились по всей Москве и за ее пределами. В своих воспоминаниях о Пастернаке А.Вознесенский называет маму «прокуренным ангелом его (Пастернака) рукописей». В каком-то смысле мама оказалась одной из родоначальниц самиздата, хотя такого термина тогда еще не существовало, чуть позднее она перепечатывала для себя и друзей всего Волошина, Цветаеву, а еще раньше ахматовскую «Поэму без героя»…
В дальнейшем, когда мама взялась за переводы Сент-Экзюпери, поначалу не думая о возможности публикации, просто хотела, как всегда, поделиться всем тем, что ей дорого, с семьей, с друзьями (и все же впервые «Военный летчик», к сожалению, с купюрами, вышел в журнале «Москва» в ее переводе, а в первый однотомник в ее переводе вошли «Южный почтовый» и письма), то полный перевод «Военного летчика», любимой ею «Цитадели», «Письма к заложнику», «Генералу X», перепечатанные и переплетенные для многочисленных друзей, тоже ходили по Москве, а потом перекочевали в другие города. В Ульяновске, в клубе почитателей Сент-Экзюпери, есть стенд с маминой фотографией и кратким биографическим очерком.
В 1946-м у нас состоялось одно из первых чтений первых глав Романа. Чуть позднее Пастернак писал маме: «… теперь на расстоянии я снова измерил и оценил: пусть проза второй и третьей тетради может быть даже и лучше первой, но наплыв чувств и мыслей, соединенных с ней, напр. период, когда я читал у Вас в присутствии Клавдии Николаевны, Петровых и Ко- четкова были отдельным важным периодом моей жизни, ее отдельной эпохой, как дни вокруг «Сестры моей жизни» и время написания «Охранной грамоты». Это йотом не повторялось. Я рад, что это связано с Вами, с Вашей комнатой…»). Цо поводу той же комнаты,