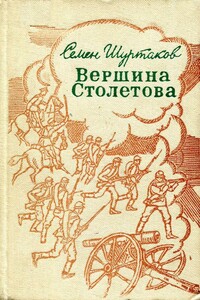Все дружно ахнули, поскольку выпито было еще мало и, значит, способность к аханию еще не была утрачена.
На картонке красовался исполненный двухцветным фломастером текст только что произнесенного акростиха-тоста: начальные буквы каждой строки, написанные крупнее остальных, горели рубиновым огнем и при чтении их сверху вниз образовывали поздравление Борису с днем рождения.
— Изумительно! Гениально! — опять первой возопила Муза.
Дальше почти точь-в-точь повторилась сцена всеобщего восхищения, сыгранная полчаса назад перед моментальным шедевром Художника.
— Друзья, не будьте строги к языковой фактуре стиха, — в свою очередь разыгрывал не очень-то идущую ему роль застенчивого скромника Поэт. — Все же это не больше чем импровизация, так сказать, поэтическая шутка.
Но такое самоуничижение лишь подливало масла в огонь. Когда Поэт в самом начале говорил о разнообразии стихотворных форм и назвал акростих, кто-то понял, что это за штука, а кто-то нет. Теперь же отвлеченная стихотворная премудрость предстала перед всеми в очевидной и доступной каждому застольной наглядности. Особенно же поражало воображение то, что поэтический блин был испечен вот сейчас, сию минуту, у всех на глазах, и таким образом каждый как бы получал право почувствовать себя приобщенным к святая святых, к тайнам художественного творчества.
Из специально приглашенных на вечер людей искусства оставался пока еще никак не проявивший себя Актер. И теперь слегка затуманившиеся взоры гостей обратились на него.
Актер встал, поломался, пококетничал, поскромничал: сначала посетовал на непривычную, нетеатральную обстановку (будто он впервые в жизни оказался в такой обстановке!), на отсутствие специального репертуара для выступлений в подобной ситуации (будто должен существовать какой-то особый репертуар актера для застолья!), а также на то, что сидящие за этим столом пока что настроены на восприятие серьезных жанров и видов искусства (уж куда как серьезных!).
— А я выступаю в легком жанре и поэтому, если вы позволите, сделаю это немного погодя. Согласитесь, должна быть какая-то пауза между высокой поэзией, — тут Актер кинул взгляд в сторону Поэта, — и непритязательной песенкой полуинтимного характера…
«Неизвестно, какой он актер, а парень, видать, неглупый, — вывел свое заключение Дементий. — Сообразил, что после фурора, который только что произвел его собрат по искусству, он со своими непритязательными песенками будет выглядеть очень бледно. И вот хочет выждать, когда все как следует упьются, тогда его полуинтим будет как раз…»
Напряжение за столом, вызванное слушанием, а затем расшифровкой акростиха-тоста, теперь спало. Провозглашение Актером паузы послужило своеобразным сигналом к переходу от жанра поэзии к жанру выпивания и закусывания. Забулькали вино и водка, то бишь виски, зазвенели рюмки и фужеры. После относительной тишины наступило деловое оживление.
— Тебе еще салатику?
— Нет, я перешел на заливное.
— Редечки, кому редечки?
— Кровавый ростбиф? Но это же моя мечта!
— Будьте добры, передайте горчицу.
— Семга хороша с лимончиком, а севрюжка с хреном…
Дементий тоже чувствовал себя уже не так скованно, как вначале. Сказывалось и то, что много ли, мало ли было выпито водки-виски, и то, что теперь уже никто ни на кого не обращал внимания. Смешными казались его недавние страхи что-то не так взять, не так спросить или не так ответить. Сейчас все было т а к. Вилка перешла из левой руки в правую, а он даже не заметил этого, а когда и заметил — отнесся к такому нарушению этикета философски спокойно: подумаешь, какая беда!..
Время от времени он скашивал глаза на Машу, словно бы проверяя, контролируя свое поведение за столом. Но Маша сидела ровная, спокойная: то ли в самом деле его поведение было безупречным, то ли она уже смирилась, убедившись в тщетности усилий привить своему кавалеру светские манеры.
Улучая подходящие моменты, она продолжала его просвещать: кто где учится или работает, чем интересны (или вовсе неинтересны) сидящие за столом люди. И первоначальная полоса отчуждения, отделявшая Дементия от этих людей, как бы постепенно сокращалась, истаивала. Соседи по застолью становились, может, и не более близкими, но более понятными.

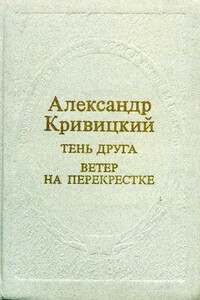


![Несмолкаемая песня [Рассказы и повести]](/uploads/books/images/17/170225f610bf60042998d45e70c85e9a1fc03105.jpg)