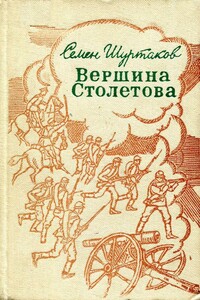Вадиму захотелось сказать Вике, как много он о ней думал в эти дни, насколько ближе и дороже она теперь ему стала, но, взглянув на нее, понял, что говорить такое сейчас не ко времени: скажет потом.
— Ну, я пойду. До свидания, Вика!
— До свидания, Вадик… Когда суд?
— Пока неизвестно.
Вадим пошуршал плащом, отодвинул замочную защелку.
— До свидания!
Ему нравилось произносить это слово, потому что еще какой-нибудь день или два назад о свидании с Викой он мог только мечтать.
— До свидания!
Вадим шел улицей не спеша, оглядываясь по сторонам, присматриваясь к каждому встречному и поперечному.
Удивительное дело! Сколько — сто или тыщу? — раз он проходил этой улицей, и никогда она его не интересовала. Он знал, что перед тем домом палисадник, а вдоль того — узенький газончик тянется; один дом выпер на самый тротуар, а другой отступил в глубину двора, закрылся деревьями, и только хитроумный такой деревянный балкон сквозь них проглядывает… Что в палисаднике растет, выходит ли кто на тот резной балкончик — его не интересовало. Все его мысли по дороге к дому Вики всегда заняты были лишь тем, что его ожидало в конце дороги, — Викой.
И вот только теперь он заметил, что в палисаднике не вообще что-то такое зеленеет, а растет сирень вперемежку с шиповником и калиной. Газон, оказывается, елочками голубыми засадили. А на балконе какая-то рыжая, как огонь, девчонка с биноклем в руках стоит…
Удивительное дело! Словно бы сидение т а м обострило его зрение, и вот теперь он заново открывал для себя мир, в котором живет давным-давно.
2
Вадим позвонил и прислушался.
По шагам, по тому, как отстегивается цепочка, он научился почти безошибочно угадывать, кто открывает дверь. На сей раз, кажется, мать. И чтобы не напугать ее своим неожиданным появлением, еще через дверь тихонько назвался.
Дверь рывком открылась.
— Вадик! Сынок! — и он почувствовал на своей шее горячие мягкие руки матери. — Сыно-ок!..
Мать глядела на него, смаргивая бегущие слезы, и ничего не говорила, ни о чем не спрашивала. С нее было довольно, что сын вернулся, что она может прижать его к своей груди, а как там, что и почему — это потом, потом. А сейчас она не хочет и думать об этом «потом», сейчас ей важно еще и еще раз убедиться, убедиться и глазами и руками, что перед ней Вадик, сын…
— Ну, раздевайся… Голодный небось, сейчас я тебя накормлю.
Вадим сиял плащ, переобулся в тапочки. Когда расшнуровывал ботинки, заметил, что руки у него грязные.
— Я пока приму ванну.
— Да, да, — отозвалась из кухни мать. — Тем временем как раз и обед будет готов.
Вытянувшись в теплой ванне, Вадим почувствовал, как все в нем постепенно приходит в равновесие, словно бы вода смывала грязь и накипь последних дней не только с тела, но и с души.
Да, вот и ванна… Чем она обычно была для Вадима? Не более как обязательной процедурой гигиенического характера. Сейчас он испытывал самое настоящее наслаждение.
А когда Вадим сел за стол, мать не знала, как и чем накормить его. Не успевал он съесть одно, она уже подкладывала ему другое, подвигала соль, хлеб и все повторяла:
— Заморился небось… Ешь, ешь, я еще добавлю.
И за обедом Вадим не раз ловил себя на мысли, что раньше он как-то не придавал значения еде: подала мать бифштекс — что ж, пусть будет бифштекс, нажарила котлет — хороши и котлеты. Сейчас он ел с чувством, с толком, с полным сознанием того, что ест не просто котлету, а котлету необыкновенно вкусную, приготовленную материнскими руками. Приготовленную для него…
А потом они сидели в комнате Вадима и разговаривали. Разговаривали, все еще не касаясь главного. И хотя мать по-прежнему не расспрашивала Вадима, что же произошло той ночью, когда она его ждала, а он так и не пришел, Вадим понимал, что теперь ее это томит, теперь она хотела бы услышать от него все по порядку.
И он рассказал все, как было, ничего не утаивая.
И когда это сделал, почувствовал благостное облегчение. Будто сбросил с плеч тяжелый груз, который носил все последние дни.
— Ты только верь мне, мама: я просто вляпался в эту историю, но сам никого — ни того ни другого — даже пальцем не тронул… Это правда, мама!..

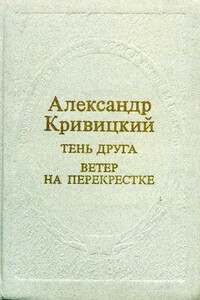


![Несмолкаемая песня [Рассказы и повести]](/uploads/books/images/17/170225f610bf60042998d45e70c85e9a1fc03105.jpg)