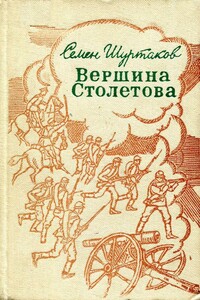Так что же, что же хотел сказать ему Вадим?!
Самого Вадима уже нет, и какое значение может иметь разгадка их несостоявшегося разговора?! Ведь она Вадима все равно не оживит. Вадиму уже ничего не нужно. Мертвому не нужны ни состоявшиеся, ни тем более несостоявшиеся разговоры.
Это нужно живым. Николаю Сергеевичу думалось: знай он, что хотел сказать Вадим, ему было бы легче. Да, поправить уже ничего нельзя. Но если Вадим что-то понял и переменил отношение к нему — с таким сознанием жить было бы легче. А так — неизвестность незримым, но тяжким грузом лежала на сердце.
В конце рабочего дня позвонила Вика и пригласила Николая Сергеевича прийти в ним.
Викентий Викентьевич чувствовал себя неважно, и они сидели в комнате Вики. Все тут оставалось как и при Вадиме. Даже учебники и тетради лежали на прежнем месте; над ними на стенке висел привезенный Николаем Сергеевичем с Чукотки и сразу, что называется, с первого же взгляда полюбившийся сыну веселый человечек Пеликен из моржовой кости. Все, как было и неделю, и месяц назад. Будто Вадим ушел ненадолго и скоро вернется…
Пробыл Николай Сергеевич в этом всегда добром для него доме недолго, какой-нибудь час. Но сколь важным оказался этот час! Сколь драгоценны для него были рассказы Вики о последнем вечере, о том, что Вадим говорил тогда об отце. Горький ком подкатил у Николая Сергеевича к горлу, когда он увидел среди тетрадей Вадима свою недавнюю статью о пределе обороны и услышал от Вики, что сыну она понравилась. Это подтверждала и запись в его дневнике, которую показала Вика:
«Умная статья!.. Когда я поближе познакомился с Колей, мне задним числом и то страшно стало, что тогда в переулке могли зарезать такого чудесного парня…»
А еще Николай Сергеевич прочитал в Вадимовом дневнике и такую запись:
«Мама меня любит больше. Мне уютно и беззаботно под ее крылом. Но ее любовь какая-то расслабляющая, она не стремится сделать меня лучше и, как в песне, только наоборот, никуда не зовет, не ведет и жить не помогает… Пролентяйничал я, что-то не сделал или сделал не так — все прощается. И если я еще не законченный эгоист — этому можно только удивляться. А может, «виной» тому отец… Он меня всегда гладил против шерстки, мне это не нравилось, да и кому может понравиться! Он предъявлял ко мне какие-то, пусть и небольшие, требования. Меня это тоже не приводило в восторг… И вот только теперь я начинаю понимать, что мама любит меня слепо, бездумно, следуя своему материнскому инстинкту, как любит любая мать своего детеныша… Отец же думал о том, чтобы из меня вырос человек. А это уж второй вопрос — все ли правильно и умно он делал, чтобы добиться этого. Да и не всегда у него находилось время со мной возиться, мама же всегда была при мне… И — не странно ли? — понял я всё это вот только теперь, когда стал жить не при папе и маме, а на расстоянии от них…»
Вика словно бы почувствовала состояние Николая Сергеевича, пригласив его к себе. Ее рассказы о Вадиме, вот эти дневниковые записи сняли с сердца тот тяжелый гнет, который давил на него все последнее время. Ничего вроде бы не изменилось, и в то же время многое изменилось…
Чтобы немного освоиться со своим новым состоянием, он решил идти домой пешком. И не так уж далеко, и торопиться некуда: то, что он узнал от Вики, Нине Васильевне пересказывать все равно не будешь…
Поначалу мысли его шли как-то вразброс, но постепенно стали выстраиваться в определенную линию: сын — отец. На одном конце был сын, на другом — отец. Как и почему они оказались на разных концах одной родственной линии, и кто должен был преодолеть разделявшую их полосу отчуждения?
Отчуждение началось еще давно, едва ли не с самого детства. Любящая мама прилагала к этому все свои силы и свое старание.
Как-то копал он на дачном участке грядки. Дал маленькую лопату и Вадиму. Помощь от восьмилетнего парнишки невелика, но пусть хоть немного приучается к труду. Вадим взялся за дело с удовольствием. Тогда он под каким-то придуманным предлогом ушел в дом: покопай пока один, я вернусь — доделаем, один-то, наверное, не осилишь… Когда он вернулся, грядка, конечно же, была докопана и Вадим утирал честный трудовой пот с сияющей гордостью и довольством физиономии. Однако Нина Васильевна дала этому в общем-то заурядному уроку труда в воспитания характера свое истолкование: поимел бы совесть — ребенок вкалывает, а сам прохлаждаешься…

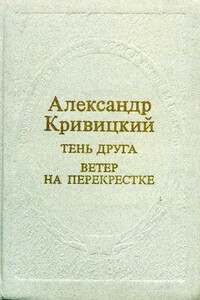


![Несмолкаемая песня [Рассказы и повести]](/uploads/books/images/17/170225f610bf60042998d45e70c85e9a1fc03105.jpg)