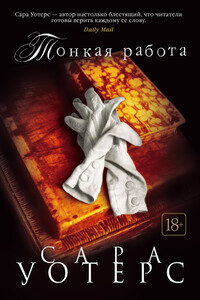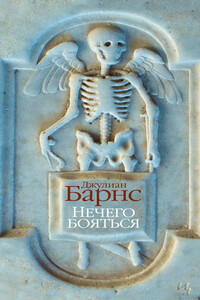* * *
Чтобы встретить старость, некоторые перебираются к морю. Они наблюдают, как приливы и отливы оставляют на берегу бурлящую морскую пену и как вздымаются далекие валы; до слуха, наверное, доносятся океанские волны времени, и эта прозрачная безграничность примиряет человека с ограниченностью жизни и неминуемой смертью. Что до него, то он, вообще говоря, предпочитал иные потоки, каждый со своими движениями и своими предназначениями. Но никаких примет вечности он в них не различал: ему виделись только молочные реки, что превращаются в сыр. Излишняя серьезность вызывала у него подозрение, а неопределенность желаний – настороженность. Милее всего были ему размеренные шаги повседневности. Вместе с тем он признавал, что его мир и его жизнь мало-помалу сузились. Но не возражал.
* * *
Например, ему думалось, что секс, по всей видимости, уже не для него. По всей видимости. Вероятно. Пожалуй. Но в итоге все-таки нет. Для секса нужны двое. Два лица: первое лицо и второе лицо: ты и я, я и ты. Но теперь неукротимость первого лица в нем угасла. Он как будто наблюдал и проживал свою жизнь в третьем лице. За счет чего оценивал ее, как сам считал, более трезво.
* * *
Так вот, извечные вопросы о свойствах памяти. Он признавал, что память ненадежна и страдает перекосами. Но в какую сторону? В сторону оптимизма? На первый взгляд это логично. Мы вспоминаем прошлое в радужных тонах, тем самым подтверждая правильность своего пути. Необязательно расценивать прожитую жизнь как триумф – уж его-то жизнь точно не попадала в эту категорию, – но полезно внушать себе, что она была интересной, приятной, целенаправленной. Целенаправленной? Это, пожалуй, перебор. Тем не менее оптимистическая память может облегчить расставание с жизнью, смягчить боль вырождения.
Но с таким же успехом можно утверждать и обратное. Если память склонна к пессимизму, если задним числом все видится в холодном, черном цвете, то и расстаться с такой жизнью проще. Если ты, как милая старушка Джоан, которой нет в живых уже тридцать с лишним лет, за свою жизнь успел побывать в аду и вернуться, то стоит ли страшиться настоящего ада или, точнее, вечного небытия? Откуда-то приплыли слова, которые сохранила камера, встроенная в шлем британского солдата в Афганистане, – слова другого солдата, которыми тот сопровождал расстрел раненого пленного. «Ну хватит. Свергни ярмо житейской суеты,[13] жопа», – и прогремел выстрел. Надо же, пронеслось тогда у него в голове, сегодня на войне цитируют Шекспира, пусть даже не дословно. Почему это вспомнилось? Может, по ассоциации со сквернословием Джоан. И он счел, что плюсы отношения к жизни как к ярму суеты можно сбросить со счетов. А мужчины – просто жопы, именно мужчины, не женщины. К тому же у пессимистической памяти есть эволюционное преимущество. В очереди за пропитанием ты был бы не против поставить на свое место других; в угоду общественному долгу ты мог бы удалиться в пустыню или быть распятым на склоне горы во имя высшей цели.
* * *
Но одно дело – теория, а другое – практика. Как он понимал, завершающим делом на его жизненном пути стало накопление правильных воспоминаний о ней. Для него «правильные» не означало «точные, фиксируемые день за днем, год за годом, от начала через середину и к самому концу». Конец был тяжким, а середина почти заслонила собой начало. Нет, он имел в виду другое: его последний долг перед ними обоими заключался в том, чтобы воссоздать и удержать ее в памяти такой, какой она была в момент их первой близости. Прокрутить воспоминания о ней назад до того этапа, когда в ней еще жила невинность: невинность души. Пока эта невинность не оказалась оскверненной. Да, именно так: пока ее не испещрили разнузданные граффити пьянства. Пока не стерлись черты лица, пока он сам не утратил способность ее видеть. Видеть, вспоминать, какой она была до того, как он ее потерял, упустил из виду, до того, как она растворилась на ситцевых диванных подушках – «Смотри, Кейси-Пол, я исчезаю!». Он потерял первое лицо – единственное любимое.
Остались фотографии; конечно, они помогали. Вот она улыбается ему, прислонившись к стволу дерева в давно забытом лесу. Стоит, открытая ветру, на широком безлюдном пляже, а у нее за спиной шеренга пляжных домиков с заколоченными на зиму окнами. Сохранился даже ее снимок в теннисном платье с зеленой отделкой. От фотографий была определенная польза, но почему-то они только подтверждали его воспоминания, вместо того чтобы их высвобождать.