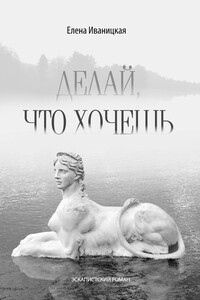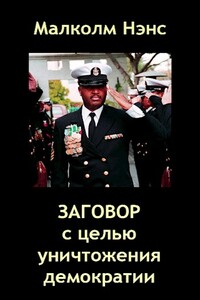Коммунизма и в пятидесятые годы было необъятно много, а в шестидесятые начался безбрежный коммунистический потоп.
Профессор Валентин Толстых, «партийный философ» советских лет, в новейшей мемуарной книге настаивает, что люди верили идеологии марксизма-ленинизма и идеалам коммунизма. Даже те, кто пострадал от репрессий. Перо профессора наливается сарказмом: если, мол, и были такие, «кто с детства понял, что марксизм – ложь, коммунизм – утопия, а Ленин и Сталин – изверги», то … «мне они почему-то не встречались» («Мы были. Советский человек как он есть» – М.: Культурная революция, 2008. с. 290—291). Конечно, не встречались. Взрослые люди не стали бы выкладывать крамольные мысли партийному идеологу, а что думали, видели и понимали дети – было и остается тайной за семью печатями.
Идеалы коммунизма всегда были сцеплены с невероятным количеством глупостей. Лично я, еще не зная слова «утопия», думала, что коммунизм – это глупость, о которой глупо говорить. Так и формулировала, еще не зная слова «формулировать», но никому, естественно, не сообщала.
Ни малыши, ни школьники, ни студенты – никто своими настоящими мыслями о коммунизме не обменивался. А если обменивались, в виде редчайшего исключения, то с самыми близкими, проверенными друзьями в полной тайне. Об этом ярко рассказал Владимир Шляпентох в книге «Страх и дружба в нашем тоталитарном прошлом» (СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2003): «Сейчас трудно понять, как могло родиться в нашем сознании глубокое презрение ко многим идеям Маркса и Энгельса, как мы могли бросить им вызов. <…> Само собой разумеется, мы считали полной нелепостью тот коммунистический рай, который обещал Маркс, когда выступал не в роли социального аналитика, а как основатель новой религии. <…> Мы чувствовали свое полное интеллектуальное превосходство над бедными основателями научного коммунизма. Это прекрасное самоощущение мы, естественно, скрывали от всех…» (с. 94, 95). Крамольные размышления юных интеллектуалов, студентов Киевского университета, относились к началу пятидесятых годов. Увернуться от коммунизма детям было так же трудно, как увернуться от Ленина. Строчки Михаила Светлова, вынесенные в эпиграф, взяты из книги-календаря на 1949 год. Малыши, не умеющие читать, должны были услышать про вершины коммунизма от мамы, читающей вслух.
Из моих собеседников только А. М. свидетельствует, что «в раннем детстве о коммунизме не задумывался и слова такого, кажется, не слышал» (Интервью 1. Личный архив автора).
А. Б. отмечает, что постоянно видела и слышала лозунги «Вперед к коммунизму», «Слава КПСС»: «Что значат всякие такие, редко произносимые и абстрактные слова, мама должна же была как-то мне объяснить… Но я, честно, не помню как. Кроме того я же смотрела фильмы и в клубе часто проводили всякие праздничные заседания. Так что слова „коммунизм“ и прочие, конечно, звучали. Но для меня они звучали достаточно абстрактно и неинтересно» (Интервью 4. Личный архив автора).
В школе детей обрабатывали коммунизмом неотступно, требуя высказываться. Помню, что весь наш класс писал сочинение о том, как мы будем жить в двадцать первом коммунистическом веке. Нам было лет десять. Писали на отдельных листках, а не в тетрадке для сочинений. Вероятно, школа эти тексты куда-то отсылала. Куда – мне неизвестно. Выяснить это и отыскать сочинения, если они сохранились, было бы интересно и важно. Но такое расследование превышает мои возможности. Должно быть, это делалось к юбилейной дате или очередной годовщине «октября». Для выставки, например. А может быть, отсылали совсем в другом направлении, чтобы проверить идейную атмосферу в семьях школьников.
Помню, что никто не захотел поделиться тем, что «насочинял» о коммунистическом двадцать первом веке. Даже с подружкой, с которой сидели за одной парте, мы об этом не говорили. Тогда я была уверена, что все писали примерно с теми же чувствами, что и я сама, и примерно о том же. С какими чувствами и о чем? Пожалуйста, объясняю. «Вы хотите прочесть, что все прекрасно, а будет еще лучше? Получите!».