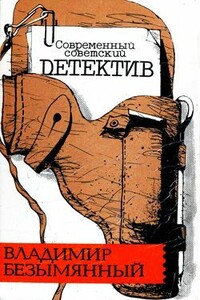Строкач встряхнул головой, словно отгоняя наваждение...
- Женщина должна уметь сказать "нет" так, чтобы это не звучало как удар по лицу. Вы же знаете, что именно ваш отказ подтолкнул его к концу.
- Как бы то ни было, обвинить меня в этом вам не удастся. Я знаю подробности: самоубийство, осуществленное в прыжке из неудобной позиции, имитация погрома в доме...
- Это вас муж ознакомил?
- Вы прекрасно знаете, что Грызин никакой мне не муж, и потом - он же арестован.
- Но совет "зарубить" книгу Склярова подал все-таки он?
Вострикова отвернулась, нервным движением сломала незажженную сигарету.
- Да, разумеется, он. Но у меня и у самой голова на плечах имеется. А у Тимура были на то свои причины. Он очень не советовал мне пробивать "Катакомбы и подземелья".
- Я не хочу сказать, что вы очень злой человек, Людмила Тихоновна. Все дело в корысти. По-моему, вы все-таки поступили опрометчиво, поделившись в писательском клубе с коллегами планами создания произведения в оригинальном жанре: синтеза детектива и научного исследования, посвященного городским катакомбам. Кстати, рукопись Склярова ведь так и не нашлась... Получив вашу рецензию, Скляров позабыл обо всем на свете. Даже о том, что следовало бы прихватить с собой и свое детище...
- Вы не имеете права! Такие вещи необходимо доказывать!
- Спокойнее, Людмила Тихоновна. За этим дело не станет.
Трехэтажный частный дом белого кирпича выглядел куда солиднее детского садика по соседству, давно не знавшего ремонта. Кладка стен была фигурной, мастерской, на окнах - кованые решетки, ухоженный сад и добротные надворные постройки. Однако постороннему глазу все это не было доступно - поместье окружал двухметровый забор из того же кирпича, по верху которого были вмурованы осколки битого стекла. Цыганский барон не жаловал чужих, а стройматериалы и подавно не экономил.
Грузный, вальяжный, в облаке парижской парфюмерии, он утопал в подушках красного бархата в глубоком кресле, с наслаждением поучая смуглого, темноволосого паренька, который, тем не менее, чувствовал себя здесь довольно уверенно.
- Молод ты, сынок, кровь играет! Я тоже был таким в твои годы. Помню, попал я с отцом в Криковские подвалы, это километров шестьдесят от Кишинева. Тоже бароном отец мой был. Краснопузых золотишком прикармливал, секретари обкомов вокруг паслись. Нет, лом из конфискованного они сами брали, но падки были, сволочи, на антиквариат. Деньги у них не считаны, да и по сей день полны загашники, но жлобы, природа такая. Все на дармовщину норовят. Станешь трепыхаться - весь табор зажмут. Ну, отец умел с ними общий язык находить. Одним словом, заезжаем мы в эти подвалы на своей "волге", а перед нами идут еще три - со всякими боссами. Едешь, как по проспекту, по сторонам винные залы, обитые цветной кожей. Серый зал, голубой, розовый... Бочки сами просят: "отведай из меня". А возле бочек шестерки... Мигни - нальют. Не худо устроились "слуги народа", а мы должны прятаться, как какие-то воры. Мне тогда и пришло в голову: а что, если бы в каких-то других подвалах действительно жили воры - страшные, опущенные, беспощадные!.. Вырос я, мужчиной стал, но не забыл об этом. Ведь проще не придумать: только распусти про таких подземных душегубов слухи - и поверят, как пить дать поверят. А мы, цыгане, свое делать будем в тени. Ладно, что там говорить, кому много дано, с того и спросится. О тебе же только одно скажу - хорошо сработал, чисто.
- Вы наша голова, отец, мы - ваши руки. Кто мы без вас?
- Попались неразумные наши ромалэ на удочку аптекаря, купил, проклятый, дурью. Действительно: дал раз ломом по ногам - и на полгода ширева. Обрубок, спасибо ему, простил дураков. Хотя, если рассудить по-блатному, - дал слабину. Такое, понимаешь ли, не прощают.
- Как же, простил! Просто знал - цыгане за своих до конца пойдут.
- Так-то оно так, Сима. Только и мы не вправе были устраивать разборы. На блатных руку подняли. Не знаю уж, кто Обрубка на нас вывел, но кто-то все же видел цыган.
- Надо было аптекаря тому же Обрубку и сдать, отец, он бы его сам и кончил.