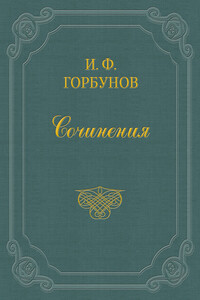– Ну, с понедельника, так с понедельника, пущай так, – говорил он.
– А оладьи с четверга, – предлагала хозяйка.
– А то кухаркам не управиться, – замечала бабушка.
– Ну, с четверга, – соглашался хозяин.
– А лещи каждый день пойдут.
– Само собой, что их жалеть-то…
В понедельник, рано утром, по всему дому распространяется блинный запах. Коты замурлыкали, даже в щелях тараканы зашевелились. Шарик давно уж сидит на кухне, облизывается и поглядывает на кухарок.
– Блинов, старый черт, дожидаешься! – говорит ему дворник.
Шарик ласково бросается к нему на шею.
– Только я посмотрю, как ты опосля лаять будешь, Я то опять я тебя на постную пищу.
Лица у кухарок от жара кажутся обтянутыми красным сафьяном.
Стол накрыт. Выходят хозяева; ведут под руки разбитого параличом дедушку, который только три раза в год появляется в обществе, а остальное время комнаты своей не покидает; входит дальняя родственница Дарья Гавриловна, в молодости имевшая роман с секретарем магистрата, который пропил все ее состояние и «на всю жизнь оставил только одну меланхолию». «Бедная я женщина, – говорит она, – но во мне столько благородства, хотя и купеческого, что я никому не позволю». За ней следует еще родственница Марфа Степановна; постоянное выражение ее лица такое, точно она просит милостыню; шествие замыкают купеческий племянник Кирюша, с отдутловатой физиономией, мужчина лет пятидесяти; наконец, Анна Герасимовна, пожилая, бойкая купеческая вдова, имеющая в захолустье дом с большим старинным садом. Сад этот она весь изрыла и ископала, отыскивая клад, зарытый кем-то в 1812 году.
Свернувши блин в трубку и обмакивая его в сметану – «в радости дождамшись», говорит хозяин.
Лица всех просияли. Дедушка хотел было выразить удовольствие улыбкой, но мускулы лица его не действовали, и он только пошевелил левой рукой.
Марфа Степановна, взявши первый блин, прослезилась и глубоко вздохнула.
Сын Семушка взвизгнул.
Дедушка левой рукой подбрасывал блин и хватал его на лету, наподобие собаки, ловящей муху.
Полное молчание.
Семушка сбился со счета.
– Манька, я забыл, сколько съел.
– Грех, батюшка, считать-то, – заметила ему бабушка, – кушай так, во славу божью.
Глаза начинают суживаться; лица у всех сделались влажными, утомленными. К последней партии блинов с семгой никто не касается.
– Дай бог доброго здоровья, – начал Кирюша, вставая из-за стола.
– А ты бы еще ел.
– Много довольны… не могу!
– Что ты, Кирюша, поделываешь? – обратилась к нему Анна Герасимовна.
Кирюша глупо улыбнулся.
– Ничего!
– Я тебе говорила – женись.
– Жениться… по нынешним временам…
– Ну, торговлю бы открыл…
– Торговать тоже… по нынешним временам…
– Куда ж теперь пойдешь?
– Туда…
– Куда?
– К тетеньке Василисе на Зацепу спать пойду.
– Ты у ней живешь-то?
– Нет.
– А где же?
– В монастыре…
– Что ж ты, душу свою соблюсти хочешь? – вмешался хозяин.
– Звоню. Колокол у нас большой, край только у него треснул… Шелапутиху хоронили, он и треснул…
– Как же, братец ты мой, – продолжал хозяин, – купеческий ты племянник, на линии, можно сказать, почетного гражданина, а каким пустым делом занимаешься, не купеческим…
Кирюша, уныло повесив голову, обтер рукавом скатившуюся слезу.
– Тетенька Василиса из дому выгнала… Ступай, говорит, вон!.. Холодно было… Всю ночь ходил по Яузе… Из Андроньева монахи взяли… «Звони», – говорят… Сапоги дали. Теперь в теплом соборе служат, а холодный который – заперт… Вчера отец казначей на Солянку за рыбой ездил…
– Стало быть, вы там хорошо едите?
– Монахи едят, – поспешно подхватил Кирюша, – мы звоним. Сегодня раннюю звонил…
– Ну, ступай с богом! Не ближний тебе путь на Зацепу-то, – сказала хозяйка.
Кирюша, положивши в рот указательный палец, робко обвел всех глазами и, тихо пробираясь по стенке, вышел из комнаты. Кухарка дала ему на дорогу пару лещей.
– Прими Христа ради, – сказала она.
Кирюша поклонился ей в ноги, промолвив:
– Благодарим за неоставление.
Первый блин, как говорится, комом. Целый день ходили все вялые. Коты не сходили с хозяйской постели. Ночь проведена беспокойно: хозяйка во сне вздрагивала, хозяин метался всю ночь, Семушка бился головой об стену и неистово кричал; Шарик, к величайшему огорчению дворника, всю ночь не лаял.