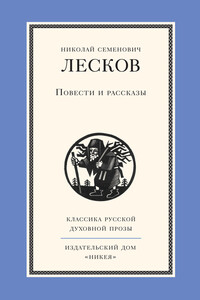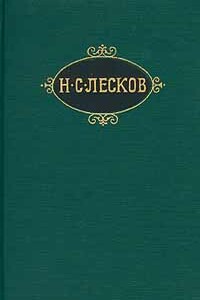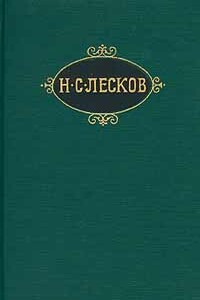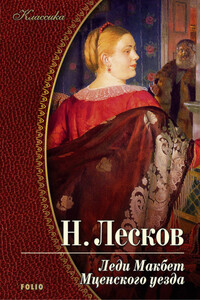Я от страха даже мало на землю не упал, но чувств совсем не лишился, и ощущаю, что около меня что-то живое и легкое, точно как подстреленный журавль, бьется и вздыхает, а ничего не молвит.
Я сотворил в уме молитву, и что же-с? – вижу перед своим лицом как раз лицо Груши…
«Родная моя! – говорю, – голубушка! живая ли ты или с того света ко мне явилася? Ничего, – говорю, – не потаись, говори правду: я тебя, бедной сироты, и мертвой не испугаюсь».
А она глубоко-глубоко из глубины груди вздохнула и говорит:
«Я жива».
«Ну, и слава, мол, Богу».
«Только я, – говорит, – сюда умереть вырвалась».
«Что ты, – говорю, – Бог с тобой, Грунюшка: зачем тебе умирать. Пойдем жить счастливою жизнью: я для тебя работать стану, а тебе, сиротиночке, особливую келейку учрежду, и ты у меня живи заместо милой сестры».
А она отвечает:
«Нет, Иван Северьяныч, нет, мой ласковый, мил-сердечный друг, прими ты от меня, сироты, на том твоем слове вечный поклон, а мне, горькой цыганке, больше жить нельзя, потому что я могу неповинную душу загубить».
Пытаю ее:
«Про кого же ты это говоришь? про чью душу жалеешь?»
А она отвечает:
«Про ее, про лиходея моего жену молодую, потому что она – молодая душа, ни в чем не повинная, а мое ревнивое сердце ее все равно стерпеть не может, и я ее и себя погублю».
«Что ты, мол, перекрестись: ведь ты крещеная, а что душе твоей будет?»
«Не-е-е-т, – отвечает, – я и души не пожалею, пускай в ад идет. Здесь хуже ад!»
Вижу, вся женщина в расстройстве и в исступлении ума: я ее взял за руки и держу, а сам вглядываюсь и дивлюсь, как страшно она переменилась и где вся ее красота делась? тела даже на ней как нет, а только одни глаза среди темного лица, как в ночи у волка горят, и еще будто против прежнего вдвое больше стали, да недро разнесло, потому что тягость ее тогда к концу приходила, а личико в кулачок сжало, и по щекам черные космы трепятся. Гляжу на платьице, какое на ней надето, а платьице темное, ситцевенькое, как есть все в клочочках, а башмачки на босу ногу.
«Скажи, – говорю, – мне: откуда же ты это сюда взялась; где ты была и отчего такая неприглядная?»
А она вдруг улыбнулася и говорит:
«Что?., чем я нехороша?.. Хороша! Это меня так убрал мил-сердечный друг за любовь к нему за верную: за то, что того, которого больше его любила, для него позабыла и вся ему предалась, без ума и без разума, а он меня за то в крепкое место упрятал и сторожей настановил, чтобы строго мою красоту стеречь…»
И с этим вдруг-с как захохочет и молвит с гневностью:
«Ах ты, глупая твоя голова княженецкая: разве цыганка барышня, что ее запоры удержат? Да я захочу, я сейчас брошуся и твоей молодой жене горло переем».
Я вижу, что она сама вся трясется от ревнивой муки, и думаю: дай я ее не страхом ада, а сладким воспоминанием от этих мыслей отведу, и говорю:
«А ведь как, мол, он любил-то тебя! Как любил! Как ноги-то твои целовал… Бывало, на коленях перед диваном стоит, как ты поешь, да алую туфлю твою и сверху и снизу в подошву обцелует…»
Она это стала слушать, и вечищами своими черными водит по сухим щекам, и, в воду глядя, начала гулким тихим голосом:
«Любил, – говорит, – любил, злодей, любил, ничего не жалел, пока не был сам мне по сердцу, а полюбила его – он покинул. А за что?.. Что она, моя разлучница, лучше меня, что ли, или больше меня любить его станет… Глупый он, глупый!.. Не греть солнцу зимой против летнего, не видать ему век любви против того, как я любила; так ты и скажи ему: мол, Груша, умирая, так тебе ворожила и на рок положила».
Я тут и рад, что она разговорилась, и пристал, спрашиваю:
«Да что это такое у вас произошло и через что все это сталося?»