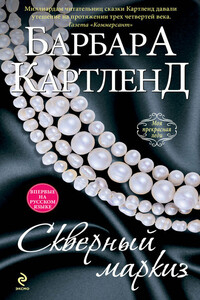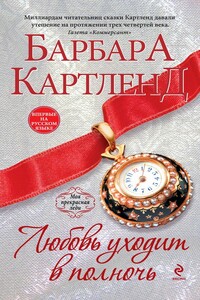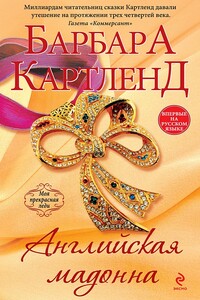— В таком случае вам, должно быть, очень повезло с друзьями или, если угодно… с возлюбленными! — В его голосе прозвучала невольная ответная жесткость. Он понимал, что столкнулись его опыт и ее неопытность, что спор их — неравный, но не мог заставить себя не возражать ей.
А Ванда легко рассмеялась — как расшалившееся дитя, которому только покажи палец…
— Нет у меня никаких возлюбленных! Вы первый мужчина, с кем я оказалась наедине, если не считать, конечно, моего отца и его старых друзей по армии, которые время от времени заглядывали к нам в дом.
— Вы говорите мне правду? — спросил Ричард, вспоминая тех женщин, которых он знал, юных модниц из Сент-Джеймса — казалось, они постигали науку флирта еще с колыбели и давно привыкли к тому, что ухажеры дожидаются их еще у дверей школы.
— Можете мне поверить, — кивнула Ванда. — Я всегда говорю только правду.
— Всегда?
— Всегда. А как же иначе? Врать грешно и неприятно.
— И у вас никогда ни от кого нет секретов?
Ванда смутилась, отвела глаза в сторону.
Вот оно! Оказывается, впервые в жизни у нее появилась тайна, причем такая огромная, такая пугающая — наверное, это написано у нее на лице большими огненными буквами… Как ей теперь с этим жить?
Она не успела ответить себе на этот поразивший ее вопрос: принесли еду и вино, и она отвлеклась, отдавшись происходящему между нею и только что встреченным ею мужчиной. Как же легко им беседовать! Неужели она сама когда-то верила, что императоры не похожи на обычных людей? В этом человеке ощущались сила и уверенность. Как спокойно с ним, никакой дистанции… Да царь ли это? Она не чувствовала в нем главу государства, а принимала его за мужчину, с которым ей так хорошо и так надежно… Или она так неопытна и неумна, что чего-то не видит в том, кто сидит напротив нее?..
Он не снимал своей маски, но Ванда понимала: он просто не хочет быть узнанным, и какая разница почему. Он смотрит на нее как мужчина, и Ванда впервые в жизни поняла, что значит быть женщиной.
Вино и впрямь оказалось превосходным, и хотя Ванда еще не проголодалась после ужина с баронессой, она заставила себя съесть немного еды, какую им принесли. С прибором на этот раз ей было проще, и она не испытывала робости от незнания.
— Расскажите мне еще о себе…
Когда он говорил по-немецки, в его низком баритоне чувствовался легкий акцент, который безумно нравился Ванде.
— Честно говоря, рассказывать о себе мне почти нечего, — ответила она, водя пальчиком по краю салфетки. — Мне хотелось бы больше услышать о вас. Вы спрашивали меня о моих впечатлениях, а каковы ваши? Ведь конгресс начался не сегодня и вы здесь давно…
— Разговаривать о Венском конгрессе столь же банально, как обсуждать погоду в Англии! — весело отвечал ей мужчина в маске.
— Значит, здесь все время говорят только об этом?
— Все время, — торжественно подтвердил Ричард. — Если только не обсуждают, кто чьим любовником сделался.
— Но когда же им… — она чуть запнулась, — заниматься любовью, когда все так заняты?
— А чем, по-вашему, они заняты здесь, как не любовью? — усмехнулся Ричард. — О, я не о министрах. У них действительно работы невпроворот, хотя и у них находится время как следует отдохнуть. Но все остальные — государи, их свита — приехали сюда для развлечений, а что может быть увлекательнее, чем любовь?
Его тон балансировал на грани горечи и цинизма, так что лицо Ванды отразило тревогу.
— Что с вами? — спросил он.
— Я пытаюсь понять, — ответила Ванда. — Видите ли, любовь никогда не представлялась мне тем, с чем можно играть или о чем можно думать фривольно. Она всегда казалась мне чем-то… священным.
Ричард молчал. Перед его мысленным взором вихрем пронеслись бесчисленные любовные связи, которыми, как паутиной, было опутано венское общество — толпа соблазнителей и соблазняемых, сводников и тех, кого сводят, аристократов, простых горожан, поэтов, карточных шулеров, банкиров, делегатов конгресса — всех тех, кто играет в игру под названием «любовь», играет с одинаковой жадностью и восторгом.
И сам он ничем от них не отличается. Его связь с княгиней Екатериной — всего лишь средство получить удовлетворение, ни больше ни меньше того. Сидящая перед ним девушка только что открыла ему истину, от которой ему стало не по себе. Чувство, которое он испытал, слушая Ванду, он бы назвал стыдом.