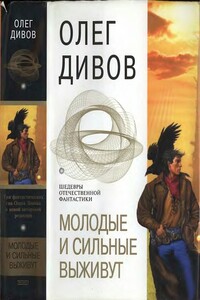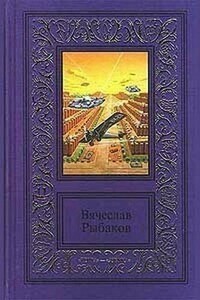Он обещал подумать. На углу Большого и Двенадцатой линии его едва не сбил грузовик. На мосту Шмидта было просторно и ветрено, твердый дождь гвоздил щеки, грохотали в рыжем свете фонарей трамваи, и мост упруго подскакивал над водянистой бездной. На набережной Красного Флота, прогремев парадными дверями, навстречу вывалилась компания, весело и нестройно вопящая под гитару: "Гоголь, Гегель, Бабель, Бебель – жидовня проклятая! Бля, и ты, моя Маруська, сделалась пархатая! Гоголь, Гегель, Бабель, Бебель – классика опальная! Бля, до жопы надоела их брехня моральная!" На Театральной, из приоткрытых окон первого этажа консерватории, слышалось с какой-то репетиции удивительно красивое девичье многоголосье: "У девицы в белом лице румяны играют. Молодого, холостого парня разжигают. А женатому тошно цаловать нарошно!" Симагин шел сквозь дождь и даже не спешил – все было далеко. Так далеко. Резонаторы были еще далеко. Но ближе остального. Дождь утихал. На канале Грибоедова – в Никольском уже пробило одиннадцать – Симагин вошел в будку телефона и позвонил Карамышеву.
– Простите, Аристарх Львович, – сказал он. – Не разбудил вас?
– Нет, что вы! Да-да, он, – добавил Карамышев в сторону, а потом опять Симагину: – А мы просто-таки чувствовали, что вы позвоните. Я слушаю вас, Андрей Андреевич.
– Я, собственно, у вас под окнами. Случайно, честное слово. Я просто гулял. И, кажется, придумал, как спровоцировать развертывание.
– Немедленно поднимайтесь! – взволнованно крикнул Карамышев.
Симагин помедлил, потом спросил осторожно:
– Но ведь вы, как я понимаю... не один?
– Мы с Верой Автандиловной занимаемся математикой дважды в неделю... она будет очень рада вас...
– Прос-стите! – страдальчески сказал Симагин и рывком повесил трубку. Вышел из кабинки. Мотая головой от стыда, отошел к парапету и неловко, поломав три спички, закурил. Только теперь он понял, как продрог. Карамышев. Сухарь. Молодец, Карамышев. Верочка, легкая и радостная, как олененок.
Завидуешь? спросил он себя и, затягиваясь, честно ответил: завидую. Хотел бы целовать ее? Да. Но, наверное, не смог бы. Целовать и не чувствовать, что чувствовал, целуя Асю, – обман. Она-то может подумать, что я чувствую именно так! Подло целовать женщину, не ставшую целью. Но ведь и средством я не сделаю ее никогда! Значит, не подло? Не цель, не средство – просто. Как ласкают ребенка. Как согревают в непогоду. А стоит улечься пурге – улыбнуться и продолжить путь, каждый – свой. И даже если путь един – все равно как-то вчуже, как-то отчасти порознь: шажок вместе, шажок врозь... Но еще страшнее и несправедливее – если, сам лишь согревая в непогоду, для нее станешь целью. Достойно ли это? Или совесть уже кренится под напором продуктов работы желез? Опершись на парапет локтями, нависнув над каналом, он жадно курил и чувствовал, как медленно растворяется, рассасывается стыд, стянувший сердце тугим полиэтиленовым мешком. Укол был слишком внезапным.
Резко ударила дверь во влажной ночной тишине. Симагин оглянулся. Верочка, ослепнув со света, в наспех накинутом пальто – как Ася когда-то, озиралась у парадного. Потом, заметив, бросилась прямо через брызжущие лужи, по-девичьи трогательно всплескивая в воздухе каблучками. Она так разогналась, что едва не налетела на Симагина.
– Вы... – проговорила она, задыхаясь. – Вы неправильно подумали! Совсем!..
Он смотрел сверху на ее гневные и виноватые глаза, на приоткрытые губы, темно-алые и нежные – действительно как спелые вишни. Хотел бы, окончательно понял он, и горло сжалось от непонятной жалости к ней. Вспомнилась фраза из Цветаевой, которую любила повторять Ася: я не живу на своих губах, и тот, кто целует меня, – минует меня... Вычурно, но точно. Потому что те, кого она целовала, не были целью. Ее душа знала это, стыдилась и страдала – но ничего не могла поделать. Цели непроизвольны. Их было только две – слова из сердца и сын. А у губ – свои цели, своя жажда. Расползаюсь по всем швам, подумал Симагин, и перед его глазами вновь поплыла горькая улыбка Вайсброда: "мне – налево..." Вот и еще один шов затрещал, между душой и губами. "Нечего ждать тебе. Нечего – мне. Я – на Луне. Заяц нефритовой ступкой стучит. Смотрит. Молчит. Он порошок долголетия трет – но не дает. Я свою жизнь всем, кто спросит, пою. Но не даю..."