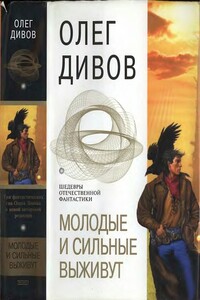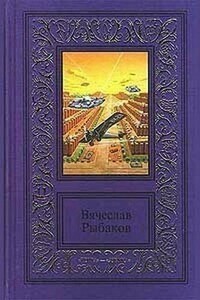Вода покрывала асфальт сплошной струйчатой пленкой, блестящей, как стекло. Ася шагала по холодному стеклу и думала: немножко доверия, немножко привычки, немножко притворства – вот и любовь. Нет. Не надо так. Все нормально ведь. Она стала вспоминать лучшие их дни. Хотя бы вечер, когда прикинулась Таней. Но поняла, что лишь тоскует по той себе, по солнечной яркости собственных ощущений. Она даже испугалась. Поправила капюшон. За шиворотом холодило, словно туда затекла вода. Но просто плащ настыл от беспросветного дождя и перестал быть защитой. Даже собственный организм. Она вспомнила вечер в декабре, когда впервые отдалась Симагину. Весь день назавтра ходила потерянная, умиротворенная. Несла на себе горячую печать его долгожданной власти... Ее передернуло от гадливости. Отдалась. Четыре месяца отдавалась, да он взять не мог. Едва слезу не пускал. Гнал ее – тебе противно. А она, измученная жутким ощущением своего, именно своего бессилия, льнула к великовозрастному мальчишке и шептала, задыхаясь: "Что ты, милый, это я виновата, я так долго мучила тебя, ты теперь мне не веришь, вот и все – а ведь я твоя, смотри... у тебя такие руки, я не могу жить без них, обними меня просто – и я уже счастлива..." Сейчас ее буквально корчило от запоздалого унижения. Просто я человек очень хороший, подумала она. Ради него даже на притворство шла, хотя ложь ненавижу. Школьница – притворство, терпение – притворство... Все лучшее происходило после того, как я притворялась Симагину в угоду. Тоска...
После работы они встретились на Горьковской. Ася издали заметила Симагина. Среди блестящих суетливых зонтов он стоял каким-то марсианином – расстегнутый, открытый. Мокрые волосы на лбу. На улыбке – капли.
– Здравствуй, – сказал он нежно и озабоченно. – А ты чего так опаздываешь?
– Разве? – она глянула на часики, привычно взяла его под руку и хозяйски поволокла из щелкающей зонтами толчеи. – Не заметила. С Таткой заболтались...
– Ты не ври, – сказал он строго и прижал ее руку к себе. – Нездоровится, да? Может, домой?
– Господи, Симагин, – с досадой сказала она. – Когда я тебе врала? Слушай, ты мне вот что скажи. Неужели ты дождь любишь больше солнышка?
– Ась, – проговорил он виновато и будто сам себе удивляясь. – Я как-то все люблю. Когда солнышко, я думаю: ух, здорово – солнышко. А когда дождик, я думаю: ух, здорово – дождик...
– Вот будет у тебя замечательный новый костюм: Ты в нем под дождиком пробежишься, и все превратится в тряпку.
– Нет! Я его не стану надевать, когда дождик.
– А что станешь? Это? Ведь стыдно!
– Ну есть же у меня выходной!
– Которому тоже сто лет!
На автобус он сесть отказался. Что ты, Асенька, из-за одной остановки! Да они же битком, посмотри! Если ты правда в порядке, давай лучше погуляем. Воздух какой хороший, пыль всю прибило... До самой улицы Рентгена, где ателье, они волоклись под дождем, по пузырящимся, мутным лужам. Симагин благостно дышал, напоминая какое-то отвратительное земноводное, и все ласкал Асину ладонь, все нудил, не холодно ли. Она почти не отвечала, и он наконец замолчал, поскучнев. Некоторое время шли молча. Видимо, он ждал, когда она спохватится и начнет болтать, хихикать – веселить его. Притворяться. Ему в угоду.
– Ася, – не выдержал он, поняв, что не дождется, – случилось что? Или тебе нездоровится все же? Ты что таишься-то, как не родная?
– Симагин, – ответила она, внутренне кипя, но сдерживаясь. – Привыкай, что мне все время будет нездоровиться, понимаешь? И не спрашивай по сто раз, не раздражай меня попусту. Жилы не тяни!
Он наклонился к ней под капюшон и чмокнул в щеку. Естественно, намочил. И ресницы задел – дай бог, чтоб не потекли. Губы были холодные, мокрые. Нечеловеческие. Чужие губы.
– И не требуй, чтоб я хихикала и придуривалась, как всегда!
– Да я и не требую... – растерянно ответил он. Она почувствовала, что говорит резковато. Ох, Симагин, горе луковое... Надо было произнести что-нибудь ласковое, но ничего не приходило в голову. Тогда она плотнее просунула руку под его локтем, устраиваясь поуютнее, как бы ластясь, и спросила, стараясь говорить прежним, влюбленным голосом: